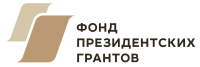Все дальше от нас годы, опаленные войной. Практически нет участников и очевидцев военного лихолетья. И только пожелтевшие листочки с неровными строчками, выцветшими чернилами, поблекшей штемпельной краской и отметками военной цензуры по сей день хранят короткие скупые рассказы о суровых окопных буднях и пафосные описания боевых подвигов, тоску по домашнему теплу и мирной жизни, горечь разлуки и заботу о родных и, конечно же, непоколебимую веру в победу. Эти письма адресаты ожидали с трепетом, замиранием сердца и надеждой.
С огромным нетерпением и на фронте ждали весточки из дома с многочисленными приветами от домочадцев, бесхитростными жизнеописаниями, трогательными пожеланиями, тревогой за своих воюющих близких и упованием на их скорейшее возвращение.
В сотнях посланий с фронта, из действующей армии в датах их написания, в названиях мест их отправки, в скупых обмолвках о готовящихся войсковых операциях и – главное – в их настроении отражены все этапы войны, человеческие страдания, страхи, надежда, уверенность в победе.
Первые фронтовые письма тамбовчан начали приходить родным сразу поле начала войны 22 июня 1941 г. В каждой строке их и непонимание, незнание деталей немецко-фашистского наступления, и ясное ощущение того, что с ними, со страной произошло что-то небывало страшное, рождавшее неизбывную тревогу за свою жизнь, за жизнь и судьбу своих самых близких и родных. В многократно повторяемых, как заклинание, словах прощания, в нервной интонации писем сквозит ощущение обреченности, предчувствие неизбежной и скорой гибели. Вместе с тем, несмотря на ужас военных катастроф, быстрого отступления армии и бегства мирного населения все дальше на Восток, в личных письмах первого года войны нет разрушающего панического страха. В них есть не только покорность судьбе – «в войну мы родились, в войну и умрем» – но и «простое», без показного добровольчества и пропагандистской бравады, выполнение собственного семейного и гражданского долга по защите близких, родины и Родины от врага, который пришел уничтожить не только твое государство, но и истребить физически весь народ. Всеобщее и стремительное осознание жизненно важной необходимости сопротивления уничтожающей тебя силе стало стержнем мобилизации сил страны на самом трудном этапе войны. «Что Сталин? Он нам и не нужон был, – говорили деревенские женщины, отвечая на вопрос о мотивах и стимулах столь самоотверженного труда в тылу. – Страшно было, что немец придет».
Из письма Г.Кошелев (24 июня 1941 г.): «Привет из лагерей города Харькова! Здравствуйте, дорогие родители! Здравствуй, мама, папа, Степан, Иван, Лиза, Леня и Катя, и здравствуйте, все остальные сродники! Письмо от вашего сына Григория Акимовича. Мама, во первых строках своего письма я сообщаю, что больше писем не пишите на старый адрес, т.е. УССР, гор. Харьков, п/о Безлюдовка, п/я № 18/1, потому что мы уезжаем неизвестно куда, но более всего предвидится, что мы уезжаем на фронт. Я вам вперед посылал письмо — не знаю, получили вы его или нет — я там вам описывал, что Германия объявила войну Советскому Союзу. Я думаю, что вам теперь уже это известно. Она, т.е. Германия, без никаких предъявлений налетела на советские города и начала бомбить их. Ввиду этого было подвергнуто бомбежке 5 городов: Севастополь, Киев и другие, а мы находимся от Киева на 400 км. Германские войска идут развернутым фронтом, т.е. от Белого моря и до Черного, т.е. охватили все западные границы. Продвинулась она на 15 км советской границы, но 24-го июня она была оттеснена обратно назад с большими потерями. Наши войска взяли в плен 5000 солдат, 300 танков и сбили 120 самолетов. А теперь Германия заняла только 3 наших города. Мама, так что Семен наш был как раз на первой линии фронта, и не знаю, сейчас как он – жив ли, нет. Мама, теперь и Ваня, и Степан тоже должны пойти на фронт или, может быть, уже ушли. Мама, ты особо не горюй, не плачь, не надо, раз такое подошло время. Мама, вот и все, что хотел я сообщить. А куда поедем, я тогда с дороги напишу письмо, но уж известно куда. Мама, еще сообщаю, что Ванино последнее письмо с фотокарточкой я получил, которой был рад, и последний раз посмотрел на своих ребят и на своего любимого брата. Мама, теперь там у вас идет мобилизация, так что останетесь несчастные вы, старые да малые. Вот и все, что хотел я сообщить. До свидания, дорогие родители. Остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. И до свидания, все остальные сродники.До свидания несколько раз. Крепко вас всех целую». (ГАСПИТО. Ф. 9291. Оп. 7. Д. 65. Л. 4, 4 об. Копия.)
Конечно, особенности предвоенной биографии тамбовских авторов отразились на содержании и настроении их писем первых военных месяцев. Городское образование и род занятий, большее партийно-комсомольское воспитание, военная выучка и боевой опыт делали жизнь в войне в целом и личные письма, в частности, бодрыми, уверенными, твердыми в надежде на нескорую, но победу. Объединило же всех, кто первым встретил врага, одно – почти все они сознательно и не даром отдали свои жизни, защищая свою страну, за своих матерей, жен и детей. Одинаковые слова из Книг Памяти «погиб в бою», «пропал без вести» следуют за письмами и рядовых, мобилизованных из тамбовских сел с записью в красноармейской книжке «годен, необучен», не получивших ни единой награды, и кадровых военных, командиров, ставших при жизни орденоносцами и Героями Советского Союза. В этом отношении судьба тамбовских авторов писем точно соответствует смертной статистике этапов войны.
Доля безвозвратных потерь среди советских солдат оставалась, хоть и меньшей, но все равно огромной и в последующие периоды войны. В тамбовском, почти полумиллионном, призыве в РККА погибло более половины — столько же, сколько и в остальных областях Европейской России, Белоруссии и Левобережной Украины. Ранены были почти все. Самым щадящим оказался 1944 г., но последние полгода войны, в силу политических и иных причин, оказались столь же «смертными», что и испытания 1943 г. Личные письма, помещенные во второй и в третьей главах данного сборника, и судьбы их авторов подтверждают эти печальные выкладки. Также они отразили и другие обстоятельства в истории войны. Мы видим, как авторы писем с фронта становятся все моложе, на смену 30-40-летним семейным солдатам и командирам, выбитым в большинстве своем в 1941-1942 гг., приходят совсем юные красноармейцы, родившиеся в 1923-1926 гг. Они – другое поколение, родившееся при Советской власти, воспитанное и образованное послеоктябрьским государством. Да и война, давно идущая и вступившая в переломную, победную фазу, оказывалась мощнейшим учителем и воспитателем чувств.
В личных письмах середины и поры завершения Великой Отечественной рядовыми, сержантами, офицерами и курсантами военных училищ война осознается и выглядит, как тяжелая, долгая и необходимая работа, требующая подготовки, мужества, терпения, опыта и, если, повезет, воинского счастья. В этих письмах ненавидимый противник, немцы – уже не непреодолимая смертная сила, а «фрицы» и «гансы», которых с хорошим оружием, командованием и подготовкой вполне можно бить и гнать с нашей земли. Совсем бодрые, победные настроения звучат в личных письмах последних месяцев войны – «наша пуля легкая – везде догонит» — хотя бои в Венгрии, Восточной Пруссии, на Висле и Одере, за Берлин по ожесточению и гибельности не уступали битве за Москву, в Сталинграде и на Курской дуге.
В личных письмах второй половины войны меняются главные адресаты: в 1941-1942 гг. послания с фронта адресованы, прежде всего, женам и детям, в 1943-1945 гг. «помолодевшие» солдаты чаще «прижимаются сердцем» к матерям (именно к матерям, а не к отцам или родителям!) и к любимым девушкам, которых все настойчивее и уверенней называют будущими женами, «милыми и многоуважаемыми супругами».
Из письма Е.В. Рябинского матери Л.П. Рябинской 15 мая 1943 г.: «Здравствуй, дорогая мама! Мама, я послал письмо тебе еще 7-го, когда мы начинали двигаться из Тамбова. Ехали эшелоном 8 дней. Проезжали Мичуринск, потом на Москву. Москву видел со стороны – очень красива. Затем, мама, все дальше от дома – на север, на Ленинград. Проезжали через Тихвин. Ехали пароходом через Ладожское озеро. Там и здесь нас донимал воздушный фриц. Ты меня, мама, спросишь, где все же я и куда попаду? Сам пока не знаю. Сейчас мы под Ленинградом, куда скоро и поедем, тогда узнаю, где мы будем. Где, мама, я ни буду, (даже если и на фронте – это может скоро случиться), я не жалею, что ушел оттуда (из училища). Самочувствие у меня куда лучше, чем там. Здесь, хотя и боевая обстановка, но чувствуешь себя свободней. Мама, не беспокойся обо мне, хотя я и от дома очень далеко, но мы увидимся. Надеюсь, что скоро пошлю письмо с адресом и напишу обо всем подробней. Ну, мама, до свиданья (не волнуйся). Привет всем. Целую крепко, крепко. P.S. Полное обмундирование нам дали еще у Москвы. Передай горячий привет папе и пришли его адрес» (ГАСПИТО. Ф. 9291. Оп. 7. Д. 105. Л. 1, 1 об. Копия).
Нельзя не обратить внимание и на язык личных писем. Он не только излучает искренние чувства, трогательно нежен, но и удивительно богат и достаточно грамотен, если учесть то, что огромное большинство авторов – молодых и среднего возраста — родилось и выросло в деревне, имея за плечами к началу войны по 2-7 классов сельской школы. Несомненно, большая война обостряла чувства и воображение, помогая подыскивать разные и необходимые слова для точного и проникновенного выражения мыслей и состояния людей. Вместе с тем, мы можем сравнить язык писем Великой Отечественной с языком писем первой мировой войны и с письменной речью нынешних молодых людей. «Наши» письма, конечно, выигрывают в подобном сравнении, главный залог их языкового преимущества – подлинная образовательная революция 1920-х – 1930-х гг., обеспечившая доступ к грамоте и знаниям практически всем молодым поколениям страны, сохранив при этом для школы важнейшие пласты дореволюционной русской культуры, культурную преемственность обновлявшихся преподавательских кадров и организации образования.
Все без исключения личные письма с фронта, из военного училища, на фронт пронизаны заботой о родных и близких. Лейтмотив заботы звучит и в постоянных извещениях об отправке денег, теплых вещей, продуктов, и в вопросах о здоровье родителей, жен, детей, о трудоустройстве и благоустройстве родных, учебе детей, и в том, что в письмах с фронта, из госпиталей, не желая расстраивать близких, солдаты почти не говорят о собственных трудностях, настоящих лишениях и физических страданиях.
Бойцы старались щадить в письмах души и чувства родных, издалека поддерживать дорогих им людей в небывало тяжелом испытании. Военный перелом и победный разбег крепнущей до могущества армии усиливали эту поддержку. То же старались делать в своих письмах и те, кто своей невероятной самоотдачей в работе в тылу обеспечивал фронтовые успехи. Какой трогательной духовной поддержкой оказывались для бойцов, вложенные в письма рисунки их маленьких детей, младших братьев и сестер, их первые слова-каракули, обведенные карандашом детские ладошки, выпадавшие из конвертов сушеные виноградинки, перья-пушинки, щепотка махорки на одну закрутку!
ДЬЯЧКОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», член АНО «Тамбовское библиотечное общество».
ЖИТИН РУСЛАН МАГОМЕТОВИЧ, кандидат исторических наук, главный библиограф ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина», член АНО «Тамбовское библиотечное общество».
Статья подготовлена в рамках проекта «Война глазами детей», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов (Проект №: Проект № 23-2-015890).