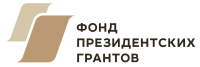№ 1
Из воспоминаний З.И. Пеньковой, 1924 года рождения, уроженки Тамбовской губернии.
1995 г.
[…]*.
Семилетку закончила в 1940 г. Работала в поле. Приходилось и косить, и снопы вязать. Работы не боялись. Пешком ходили в Тамбов – торговали луком. Выйдешь – как коров выгоняют, а возвращаешься – уже темно.
О начале войны узнали в поле. В это время пропалывали просо. И вот к нам в поле прискакал на лошади парнишка. Еще на скаку, завидев нас, он стал кричать: «Война! Война!». А уже через несколько дней нас, семнадцатилетних девчат и парней, направили на рытье окопов. Везли в теплушках. Побывали под Брянском, Воронежем. Неорганизованность, бестолковщина была страшная. Не успеешь начать работу в одном месте – перебрасывали на другое, третье. Часто забывали накормить, не было питьевой воды. Помню, темно было, пить хочется страшно. Ну что делать? Вот и пили из лужи. Нагнешься и через подол платья цедишь – пьешь. Противно, а куда деваться – пить-то хочется. А утром как глянешь на подол, а он весь в тине. Руки были все в мозолях, кровоточили. Не раз попадали под страшные бомбежки. Вернулись домой все измученные, оборванные. Страшное было время. Запомнилось оно постоянным чувством голода, потерей друзей, кровью и бесконечной усталостью.
Я всегда была верующей. У нас тогда в деревне была церковь деревянная. Такая хорошая. Придешь туда – душа отдыхает. Председатель сельсовета в 1942 г. собрал после работы всех трактористов и приказал церковь эту снести. Тогда везде так было. Все село было шокировано. Всем жалко церковь. Трактора даже поначалу не заводились. А потом подцепили ее и снесли. И все село прокляло своего председателя. Старики говорили, мол, Бог-то, он все видит, поплатится он еще за это страшное дело. И правда, через несколько лет пропал он без вести, и до сих пор никто не знает, где он.
Помню, пришел отец с войны раненый, а этот председатель у него расспросит все: что там да как, а потом и всем рассказывает то же самое от своего лица, как будто он на войне был. К девкам похаживал. Одну так замучил: «Живи со мной и все, а то я на фронт отправлю». А он уже старый – зачем он ей? Она сама на фронт и ушла. Не любили мы своего председателя.
Училась я в педагогическом техникуме на физкультурном отделении и более 50 лет была педагогом. Прививала любовь к спорту. Меня до глубины души возмущает современное негативное отношение к армии многих молодых людей. Да это не просто трусы, маменькины сынки. Таких в мою молодость презирали. За ними нет будущего.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Автограф.
__________________________________
* Опущены воспоминания, не относящиеся к теме сборника.
№ 2
Из воспоминаний В.К. Лыткиной, 1925 года рождения, уроженки с. Воронцовка Тамбовского уезда.
1994 г.
[…]*.
Мне было 16 лет, и пошла я в мае 1941 г. на трактористов учиться, чтобы хоть хлеб есть. Трактор загудит, а я от страха кричу. Окончила учиться, и осенью назначили пахать. А мне бригадир сказал, что я буду плуга чистить. Я расплакалась, потому что их не кормят, а трактористов кормят, а потом из зарплаты за еду вычитали. А плугочистов не кормили.
Так я и работала в колхозе: и полола вручную, и свяслы сучила, и снопы ставила. Комбайн у нас даже в колхозе был. Ходила на ток, сеяли, веяли. Огород у нас был – картошку сажали, огурцы, капусту, свеклу, ими зиму прокормились. Весна началась, а есть уже нечего – ходили по полю собирали мерзлую картошку и из нее картошечные оладьи пекли. Но тут одна женщина, Катя, пошла в Тамбов, и я с ней, так как есть нечего. Взяла эти оладьи и пошли в Котовск. Она в дороге достает яички, пышки закусить, а мне свои оладьи доставать неудобно – они все черные. Из Котовска поехали на поезде, билет стоил 15 копеек. Это был май 1942 года. Приехала я к бабушке – она наварила ячневую кашу, и я объелась, плохо было. Бабушка меня прописала, и мне дали паспорт. Я ей помогала по дому, питались по карточкам – 250 грамм хлеба.
Но в июне 1942 г. приходит уличный комитет и говорит: «Бабушка, что у тебя за девушка живет?». Она говорит: «Внучка». Они: «А она работает?». Бабушка: «Нет». Уличный комитет: «Если не поступит работать, то угоним ее окопы копать». А бабушка боялась и мне говорит: «Иди поступать». И я пошла с подружкой в «Ревтруд» работу искать. А там висит объявление: «Требуются токаря и слесаря – с семилеткой, формовщики – с 4 классами, разнорабочие». Мы думаем: «Что это за формовщики?» И пошли в отдел кадров. Отдали паспорта, а нам было по 17 лет. Начальник отдела кадров говорит: «Пишите заявления», а мы не можем. Тогда написала секретарша, а нас отправили к мастеру Дудкину. Нас поставили учениками.
Формовали тормозные колодки, а опоки тяжелые – чугунные да еще набитые землей. Там я проработала 3-4 месяца, а затем меня сняли в «земледелку», где я проработала 20 лет, а потом еще 8 лет до пенсии на выбойке. И на пенсию ушла в 45 лет в 1970 году. Ишачили, как ишаки, по 12 часов. Было всего две смены: или с 7 утра до 7 вечера, или с 7 вечера до 7 утра. И так всю войну, без выходных и отпусков. Народ кипел. Мы носили на носилках облицовочный состав на формовку и таскали масляный состав для стержней. Эти стержни – для «Катюш». Надо было засыпать в машину песок и залить восемь литров подсолнечного масла. А лаборантка следила, чтобы не унесли масло, так как если его не долить, то стержни будут крошиться, рассыпаться. А выльешь масло, на дне ведра все равно набежит немного поддонков. И когда сядешь обедать, то хлеб и картошку макали в растительное масло. Со мной на пару работала еврейка – Антонина Спивак, мы с ней вместе носили носилки. Хорошая женщина, только очень любила лук и чеснок и обижалась, когда на нее еврейкой обзывались. И еще был инженер-еврей – Уманский Борис Харитонович, тоже хороший, только умер рано, а жена у него врач была. Мужиков позабирали на фронт, а на шестерых наложили «бронь» – они работали на станках.
Бомбежка начнется – свет отключат, темь, все мечутся, бегают, кричат, а он бьет, бьет. Особенно по вокзалу бил. Пустит фонари – как день. Много бомб не разрывалось – их потом выкапывали. Перед бомбежкой объясняли по радио: «Воздушная тревога!».
В 1942 г. в конце июня была самая сильная бомбежка – с 9 вечера до трех ночи бомбил. А в 1945 г. смотрим – идут с гармонью, кто пляшет, кто песни поет. И говорят: «Товарищи, война окончилась!». Все бросили работу и пошли на митинг, на площадь Ленина. […]*.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Фонозапись.
__________________________________
* Опущены воспоминания, не относящиеся к теме сборника.
№ 3
Из воспоминаний Р.В. Ильиной, 1925 года рождения, жительницы г. Мичуринска, о военных годах.
1992 г.
В 1934 г. я пошла в школу, она находилась очень далеко от дома. Для этого случая скопили денег и купили мне ботинки, сатиновое платье для лета и фланелевое для зимы. Форму школьную мне мама сшила из своего старого костюма. Школьную сумку смастерила мне бабушка. Книги давали нам в школе бесплатно. Два класса училась в Углянской школе № 4, затем построили новую школу, недалеко от моего дома. С 4-го класса мы каждый год сдавали экзамены.
В эту школу устроилась работать моя мама – уборщицей. В семье появился постоянный заработок, но мама не прекращала подрабатывать, и я ей стала помогать. К тому же в школе нас кормили бесплатно обедами: суп гороховый, вермишелевый и кусочек хлеба, посыпанный сахаром. В этой школе я закончила 7 классов – это был 41 год. 7 июня выдали свидетельство об окончании школы, и я подала документы в медучилище. Но учиться мне там не пришлось.
22 июня мы с сестрой с утра пошли в парикмахерскую, было около 10 часов утра, и вдруг по радио объявляют: «Война!». Мы услышали продолжительные гудки, звон церковных колоколов. На улице все кричали, кругом паника. Я поспешила домой, мамы дома не было. Она ушла на митинг. Пришла она около 3 часов. Она сказал, что велели заклеивать окна крест-накрест, если вдруг начнется бомбежка, чтобы не вылетали стекла. Около дома заставляли рыть яму, чтобы в случае нападения немцев прятаться там.
Документы из училища мне пришлось забрать – настояла мама. Боялась, что меня в качестве медсестры заберут на фронт. Поэтому я подала документы в железнодорожное училище. Сразу нас приняли в комсомол. Я была в группе девушек слесарей-инструментальщиков. Во время учебы куда нас только не посылали: гоняли рыть окопы, ходили на разгрузку раненых из вагонов, в госпиталях чистили картошку, для раненых пели песни, плясали, писали письма на фронт.
Однажды на танцах мы услышали военную тревогу, немцы бомбили вокзал, были разрушены привокзальные дома. Утром, когда я шла мимо, там было много народу, все кричали, валялись руки, ноги. С тех пор я не стала ходить ночью, мама мне запретила. Да и вся молодежь утихла, город вечером становился пустынным. Через несколько дней бомбили элеватор, мы все собирались в чулане и сидели в одной кучке.
В течение всей войны мы испытывали страшную нужду. Одежды, обуви не хватало. Еду стали давать по карточкам (до 1947 г.). Чтобы получить еду по карточкам, занимали очередь с вечера. Стали есть крапиву, лебеду, экономили на всем. Суп варили из трех картошек и лука. Мяса не было. Терли картошку, из крахмала делали лапшу, а из выжимок пекли оладья. Тушили свеклу, ели брюкву, жевали жмых. Я очень любила гороховый кисель, который готовила моя тетка.
В 1943 г. меня выпустили из училища в вагонное депо станции Кочетовка. По профессии я не работала. Моя основная работа стала – возить еду рабочим. В 1944 г. меня послали на курсы осмотрщиков вагонов. По окончании этих курсов я стала работать осмотрщиком вагонов на станции Кочетовка. Я получала 1500-2000 рублей, буханка хлеба стоила 200 рублей. Деньги, которые получала, отдавала маме. Мы стали вдоволь есть хлеб.
Перед началом работы была планерка, где всегда говорили о ситуации в стране, т.е. о войне, что наши войска заняли, куда продвинулись, в каком положении находятся наши враги-немцы. По радио также постоянно сообщали о войне, и поэтому мы слушали новости по радио каждый день.
Дисциплина на работе была очень строгая, беспрекословное подчинение во всем. Висел плакат: «Приказ начальника – закон для подчиненного. Он должен быть исполнен точно в срок». Дежурили через сутки. Зимой приходилось даже работать по двое суток, особенно тогда, когда был сильный снегопад, т.к. железнодорожные линии заметало, а нам приходилось их расчищать.
1945 год был, с одной стороны, тяжелым годом, т.к. голод продолжался, но с другой стороны – приближение победы, об этом говорили все.
9 мая в 4 часа утра передали по радио: «Победа!». Нашей радости не было предела, с войны мы никого не ждали, т.к. брат и отец умерли еще до войны. Вечером был салют, кто-то веселился, плясал, а кто-то плакал, не дождавшись живыми своих сыновей, мужей, братьев.
[…]*.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Автограф.
__________________________________
* Опущены воспоминания, не относящиеся к теме сборника.
№ 4
Воспоминания А.Н. Костиной, 1927 года рождения, уроженки с. Туголуково Борисоглебского уезда.
1992 г.
В семье нашей было 9 человек: 7 детей, мать и отец. Отец был на фронте. Когда началась война, все очень испугались. Мобилизация мужчин началась в первую же ночь. Вокруг была какая-то суматоха: куда-то сгоняли трактора и машины. Вскоре всю технику и лошадей из колхоза забрали. В армию были призваны почти все мужчины. Иногда приезжал вестовой среди ночи, давал 2 часа на сборы, и мужчин увозили. Бывало, забирали даже с поля.
В школе учились мало времени, т.к. всю войну приходилось работать. Книг почти не было, чернила от холода застывали, и поэтому писали карандашами. Записывали слова учителя на журналах и газетах между строчек. Да и эти газеты и журналы были не у всех.
Все работы в колхозе выполняли женщины, дети и старики. Вместо лошадей использовали коров и быков, а на своих участках пахали на себе. Работали по наряду, т.е. выполняли ту работу, которую скажут делать. Все делали вручную: поля косили крюками, молотили цепами, солому в скирды сносили тоже вручную. За работу нам ставили трудодни. За 1 трудодень давали 200 гр. ржи. Никакой нормы трудодней у нас не было, т.к. вне зависимости от выработанных трудодней работали круглогодично.
Многие поля в колхозе приходили в запустение, т.к. не хватало сил их обрабатывать. Весь хлеб сдавали государству, до последнего килограмма. Техники не было, и поэтому хлеб носили на элеватор в Жердевку (женщины на себе, по пуду на каждую). Скотины в колхозе было мало, нечем было ее кормить.
Наш колхоз назывался «18 лет Октября». Председателем был мужчина – старик, совершенно неграмотный.
В конце 1942 г. стали приходить инвалиды. Все они делали какую-нибудь работу в колхозе. Когда появились мужчины, то стали разводить и немного лошадей. Мужиков, как правило, выдвигали на руководящие должности.
Проводились постоянные займы: на строительство самолетов, танков и т.д. Они были добровольными только по названию, а проводились принудительно. В правлении колхоза эти займы распределялись каждому, хотел он того или нет. Чтобы достать денег на эти займы, приходилось продавать продукты на рынке. Налоги были на все, что возможно: на приусадебный участок, на молоко, яйца и т.д. Даже у тех, у кого была корова, не часто ели молока. Когда осенью рыли картошку, то часто приходили солдатские отряды и забирали большую ее часть, а иногда даже и все подчистую.
Семья наша жила бедно, впроголодь. Питались картошкой, свеклой, ели траву. Да было у нас еще полкоровы (1 корова на 2 двора). Большинство народа воровало в колхозе, но не для наживы, а для того, чтобы прожить. Воровать ходили ночью, тайком, а утром, как всегда, шли на работу.
Существовало гособеспечение для семей, которым жилось особенно трудно, но оно помогало мало.
В одно время стало особенно трудно, есть было нечего, и мы могли умереть от голода. Продали все, что можно было продать. И тогда я написала письмо отцу на фронт и сообщила ему, что в живых он нас вряд ли увидит. Отец сказал об этом своему командиру, и вскоре от командования их воинской части пришло письмо в райисполком и военкомат с просьбой помочь нашей семье. Вызвали меня к председателю райисполкома Макарову . Дали три пуда ржи и три детских пайка (1 паек – 2 кг белой муки, 2 кг пшена, 1 кг сах. песка, 1 кг сливочного масла). Мать продала масло и сахар на базаре и купила картошку: этим мы и смогли прожить. Одно время было так голодно, что мои младшие братья засыпали. Я их будила, иначе они могли умереть. Одного бужу – другой засыпает. Брата Виктора будила почти двое суток, сама почти не спала.
Но как бы ни трудно, мы были молодые и нам хотелось отдохнуть, повеселиться. Собирали вечера. Наворуем дрова, продуктов (что можно – у себя в доме) и собираем вечер. Одевались мы, девушки, в бабью одежду. Ребят не было. Плясали под гармошку и балалайку. Играли в разные игры, пели песни.
Колхоз «собирал обед» на праздники. Давали на общий стол от колхоза продукты: мясо, растительное масло, муку (конечно, в небольшом количестве). Пляски продолжались до полуночи. Народ был веселее, чем сейчас, хотя жить было очень тяжело.
В селе были беженцы из Бобруйска. Размещали их по домам у сельчан. Работать они не любили, работали «из-под дубинки», были богаче нас, лучше одевались. Как только их город освободили, они уехали.
Хотя питались плохо, тяжело трудились, народ был здоровее и умирали мало. Жили так тяжело вплоть до самой победы и в первые годы после нее.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Подлинник.
№ 5
Воспоминания А.П. Тереховой, 1928 года рождения, уроженки с. Большой Избердей Шехманского района.
1994 г.
Мать моя, Терехова Марья Гавриловна, воспитывала нас пятерых одна. Отец в это время уехал в Тверь на производство. Оттуда его взяли в армию. С войны он так и не вернулся. В это время нам было очень трудно, были разуты, раздеты, голодали. От голода и болезни у меня умер брат, которому был 1 год, и сестра, ей было 4 года.
Чтобы что-нибудь поесть, мы ходили на поле собирать прошлогодние колоски. Наберем кружку пшеницы, сварим суп. На следующий день снова шли в поле и собирали пшеницу. Так мы питались.
Дом у нас был деревянный с соломенной крышей, три окна. Сени были плетневые. Вместе с нами жили коза и четыре курицы. Траву для козы рвали руками в лесу. Рвали ночью, т.к. днем было нельзя, могли наказать. На огороде сажали картошку.
Когда мне исполнилось 13 лет, меня послали работать плугочистом. Работать было очень тяжело. Я чистила плуги, заливала в трактор воду и солярку. Моя сестра, которой было 11 лет, тоже работала. Брат был еще маленьким, и мы его оставляли дома. Мама в это время работала в колхозе на разных работах. Она вместе с другими женщинами косила рожь, пшеницу, вязала снопы, молотила, веяла. За работу нам писали трудодни. Трудодни оплачивали пшеницей, за один день 100 грамм пшеницы. Также были и облигации.
Порядки были очень строгие. Свободного времени было мало. Молодые собирались на лугу и плясали под гармонь, а пожилые на лавочке около дома разговаривали.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Фонозапись.
№ 6
Из воспоминаний В.Н. Макаровой, 1928 года рождения, уроженки с. Солдатская Духовка Тамбовского района.
1999 г.
[…]*.
Закончила я школу в этом же селе Солдатская Духовка. Годы эти пришлись на довоенное и военное время. Первые четыре года перед войной отучилась очень хорошо, а в 5-м классе – первый год войны – я отучилась месяц и бросила школу, так как время было тяжелое: голод, далеко идти. Отец ушел на фронт. В письме ему написала, что бросила школу, он писал, чтобы училась. За мной пришли из школы, узнать, почему я не хожу, ведь отметки у меня были хорошие. Потом я стала ходить в школу. Я любила учиться – если пропущу один день, то скучаю. Сзади меня сидел один мальчик, он любил дергать меня за косички и опускать их в чернильницу. Чернила наливали в школе перед занятиями.
Питание было плохое. Первый год войны еще было мясо, когда корову зарезали, а потом плохо: ели щи с лебедой, чуть-чуть подбеленные молоком, картошку. Ее варили в кожуре. Другие же, были и такие, которые пухли с голода. Мы поедим, и через час уже опять хочется есть. Ели также свеклу, собирали мерзлую картошку, которую не убирали в поле. Ее сушили, толкли, добавляли чуть муки и делали пышки («пилюхи»). Этим и спаслись. Собирали также колоски пшеницы и ржи. Делали рушалку и толкли, провевали, мыли и варили кашу.
Отец пришел с фронта инвалидом в 1944 году. Он воевал под Великими Луками на Калининском фронте. Потом все рассказывал, что там было очень сыро и много воды. Письма писал с фронта и в них: «Дети, молитесь за меня, я иду в бой». Я, маленькая, молилась ночами за отца. Долгое время от отца не было писем. Мы думали, что его убили, но похоронку не приносили, хотя в другие дома приносили. Потом пришло письмо из Сибири, отец лежал в госпитале. Его должны были комиссовать. Солдаты приходили и на побывку. Однажды я гуляла и услышала: «Николай Иванович Бурлин пришел». Я побежала домой. Захожу – папа. Он стоит в форме, с недееспособной рукой. В это время ему был 41 год. Он устроился в колхоз сторожем. С отцом стали жить получше. До войны он был мастером на все руки – и кровельщик по железу, и печи клал, хороший плотник, портной, все мог сделать. В колхозе он после войны не работал, все болел. Мама была активной, боевой: и косила хлеб, и сено, и пахала. Косили крюками. По воскресеньям собирались у нас молодые женщины, мужья у них на фронте. Вино выпьют, закусят и песни поют.
Я также ходила в колхоз (мне было 12-14 лет), вязала рожь, пшеницу в снопы и таскали в крестцы. Молотили. Сеяли в войну вручную старики.
В 1945 году я, окончив 7 классов с одними пятерками, поступила в фельдшерско-акушерскую школу в г. Тамбове.
[…]*.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Автограф.
__________________________________
* Опущены воспоминания, не относящиеся к теме сборника.
№ 7
Из воспоминаний Е.В. Рыжухиной, 1928 года рождения, уроженки д. Сборная Сампурского района.
2001 г.
[…]*.
Летом 1941 года по деревне проскакали мужики на лошадях и прокричали, что началась война. По деревне прошла мобилизация, и большинство мужчин ушли на войну. В деревне остались женщины, дети, старики. Некоторые мужчины убегали в поля, но их находили и отправляли на войну. Некоторые, особенно изобретательные, делали себе разные болезни. Двоюродный брат Савва, чтобы не идти на войну, пилил ногти на руках и сыпал опилки в глаза, отчего они воспалялись, становились красными, он плохо видел. Его не брали на войну. Односельчане все знали, ругали его, стыдили, но Савва так и не пошел на войну.
Из моей семьи на войну ушло два брата – Ваня и Коля. Коля попал в блокадный Ленинград, и от него не было вестей 1,5 года. Первое письмо от него пришло в 1943 г. А Ваня почти сразу после начала войны попал в плен, был в Германии, откуда два раза бежал. Был ранен в голову и попал в госпиталь в Москву. Из госпиталя он и написал свое первое письмо в 1944 г. Семья уже давно не верила в то, что он жив. Когда получили письма, долго сравнивали почерки и не верили, что эти письма от них. В деревню часто приходили письма с фронта, читать их собирались всей деревней, по несколько раз перечитывали. За все время войны в деревню не пришло ни одной похоронки.
Жители деревни хотели помочь фронтовикам. Женщины ходили за 12 километров в село Коптево, брали там пряжу и вязали дома варежки, перчатки, платки. Потом все это относили назад в Коптево и переправляли на фронт. Людей никто не заставлял это делать, они сами хотели помочь.
За время войны через деревню проходило много беженцев. Им помогали, кормили, чем могли, пускали на ночлег. Беженцы иногда перегоняли скотину. Во время перегона некоторые продавали скотину, некоторые отдавали просто так. Зять Данила покупал мясо, иногда ему отдавали скотину. Он солил мясо в бочках, помогал семье.
Вообще за время войны семья стала жить лучше благодаря зятю и снохе. Так как почти все мужчины были на войне, председателем колхоза люди избрали сноху Шуру, жену старшего брата. Шура воровала зерно из колхоза, прятала в стог сена и потом приносила домой. Один раз двоюродный брат Савва подглядел, где она прячет зерно, и украл у нее. Другая соседка Груша Ивановна, мать восьмерых детей, тоже подглядела и на следующий день пришла к Шуре с мешком. Груша сказала: «Шура, давай мне зерно, а то пойду и расскажу про тебя, и тебя посадят».
Другие дети и взрослые из деревни собирались в компании и ночью ходили в другие деревни на колхозные поля и срезали колоски.
В 1944 г. в колхоз пришел приказ – из каждой деревни по 1-2 человека отослать на работы. Всех собрали на станции Сампур и на обозах отправили в Котовск. Из Котовска в вагонах повезли под Ленинград (станция Жихарево). Когда приехали на место, стали кормить людей, а потом распределили на работы. Кормили всех щами, в миске плавали капустные листы с червями. Люди вылавливали червей, а остальное съедали. Жили все в общежитиях, постельное белье выдавалось под роспись. Еду себе готовили сами. Мне мама из дома дала 3 бутылки подсолнечного масла и мешочек гороха. Я отсчитывала горошинки, добавляла их в воду и чуть-чуть масла, вот и вся еда.
Работа была разной. Заставляли копать окопы, гоняли на торфяные работы собирать торф. В полях, где копали окопы, было много убитых. Их собирали в телеги и увозили. Жили там четыре месяца.
Я и еще две девочки сбежали, сели на товарный поезд и уехали. До дома добирались 12 дней на попутных поездах. Ночевали в вагонах, просили милостыню. Люди помогали, давали хлеб, еду. Когда пришла домой, все рассказала родным. Мама очень испугалась, что меня посадят в тюрьму. Я пошла работать в колхоз. В это время у нас на квартире стоял уполномоченный по каким-то делам Сыщиков Петр Ермолаевич . Он очень хорошо относился к семье. Как-то он уезжал в Сампур, приехал оттуда и сообщил, что я осуждена на 5 лет каторги. Жена Петра Ермолаевича, Надежда Федоровна , работала судьей. Петр Ермолаевич обещал помочь прекратить уголовное дело и помог, дело закрыли. Мама в благодарность напекла хлеба, наложила творога, сметаны, яиц, насыпала пшеницы.
В 1945 г. по деревне объявили, что война закончилась. Скоро вернулись домой оба брата. […]*.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Автограф.
__________________________________
* Опущены воспоминания, не относящиеся к теме сборника.
№ 8
Воспоминания Н.М. Сивковой, 1928 года рождения, уроженки г. Тамбова.
1993 г.
В войну мне было 13 лет. Но я отлично помню рев самолетов над Тамбовом. Помню, одна бомба упала в зрительный зал кукольного театра, и мы с девчонками бегали смотреть, какая страшная яма там образовалась. Помню, как отца провожали на фронт (это было в 1942 году), он сразу попал под Сталинград. Позже помню, как мы с подружками гасили фугасные бомбы на крышах.
Когда отца взяли на фронт с завода «Ревтруд», то мать встала за его станок и сутками не приходила домой, а за мной и двумя сестренками присматривала слепая 80-летняя бабулька. Чувство военного голода до сих пор хорошо помню. Есть всегда хотелось. Мама поменяла все вещи на продукты на рынке. Однажды пришло письмо, что дядя находится в госпитале недалеко от Тамбова, под Липецком. Мать насушила хлеба и поехала его проведать. Приехала в госпиталь, а их оттуда уже вывезли, т.к. этот госпиталь бомбили. Мать эти сухари раздала беженцам на вокзале. Домой она добиралась много суток, и помню ее опухшие ноги, она еле сняла валенки. Плач матери и сейчас помню.
В школу мы ходили. Учебников не было у нас, один был у учительницы. Но уроки все равно задавали, и мы их выполняли. А делали их так: обычно собирались у кого-нибудь дома, у кого была керосиновая лампа, а не коптилка.
Я была ответственной по улице за затемнение (ул. Куйбышева). Чуть-чуть начинает темнеть, я захожу в каждый дом и предупреждаю, чтобы свет не зажигали. А вечером специально делала пробежку по улице, увижу, где свет и говорила: «Зачем зажгли? Немцы бомбить будут».
Я очень быстро научилась вязать. Мама ходила в деревню, меняла вещи на шерсть. Носки в основном дарили. Делали это так: приготовили незатейливый концерт, идем в госпиталь, выступаем перед ранеными, а потом стараемся всем хоть что-нибудь подарить.
А сколько писем я написала за раненых! У одного раненого уже собственные пальцы начинали шевелиться, мог бы и сам написать, а он до того привык ко мне и говорил: «Дочка, уж больно у тебя хорошо получается, напиши». А сколько полов я перемыла… Доски были крашеные, вода холодная. Бывало, мою, а в глазах темно. Сколько раз в обморок падала от этого мытья.
А домой приносила бинты, мы их стирали и кипятили без мыла, добавляли золу. Все это мы делали ночами.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Подлинник.
№ 9
Из воспоминаний А.Т. Рожновой, 1929 года рождения, уроженки д. Ракитино Ржаксинского района.
2006 г.
[…]*.
В 1941 году началась война. Бывало, едет верховой по селу, повестки мужикам развозит. На фронт брали мужчин, начиная с 17 лет до 60-летнего возраста. От колхоза брали лошадь и мужчин отвозили в район, а с района забирали в разночинье, куда их посылали – никто не знал. Каждый день забирали на войну, провожали всей деревней, крику было много. Ведь оставались одни дети, женщины и старики. Девушек брали на трудовой фронт копать окопы, наваливали большую кучу земли, чтобы танк не смог проехать. Нас, конечно, не брали на окопы, брали тех, кто был постарше. Мужчинам в армию сушили и собирали сухари на первое время.
Если кто раненый придет с фронта, то встречали всей деревней, бежали, спрашивали: «Ты нашего не видел?». Да разве мог он там кого видеть, всех разбросало кого куда. Когда с фронта отступали солдаты, размещать их приходилось во всех дворах, у кого было место. А их надо было накормить, напоить, и тогда мы ходили в колхоз за едой. А утром командир стучал по окнам, чтобы солдат собрать на построение.
На фронт колхозники сдавали картошку, вязали варежки, носки солдатам. В ответ приходили не все, более половины – да какой там! – даже 2/3 не возвращались назад.
Когда началась война, отец ушел на фронт, и с этого времени я перестала ходить в школу, стала работать в колхозе, чтобы прокормиться.
В семье было два старых человека, дед и бабушка, которые не могли работать по состоянию здоровья. Как я говорила, ростом я была очень высокая, хоть мне и было 12 лет. Из-за своего роста работать приходилось тяжело и трудно, везде, где заставляли, и на возраст скидку не давали. Ответственности за нас никто не нес, никому мы были не нужны, говорили: «Война все спишет».
Работали мы за трудодни. Осенью и весной работала в поле плугочистом на тракторе ХТЗ. Работать было очень тяжело, пахать приходилось и днем, и ночью, плугочист сидел на плуге, и когда плуг забивался, его чистили. Из-за длительной и утомительной работы порой засыпала за плугом. При вспашке зяби не хватало тракторов. Поэтому зябь пахали на волах и на лошадях. На лошадях пахать было легче, чем на волах, так как волы были медлительные и упрямые. Ляжет вол на землю – и не поднимешь. Иногда в соху впрягали и людей по 2-3 человека из-за нехватки тракторов и лошадей.
Летом работали в поле на прополке проса, ржи, кориандра, пшеницы. В уборочную страду во время покоса вязали снопы. Косить детей не заставляли, потому что очень тяжело, а взрослые косили рожь, пшеницу, ячмень крюками. Крюками работать было очень тяжело. Крюк представлял собой косу, а повыше косы было сделано в виде граблей для подбора жнивья. Поэтому после укоса крюком почти не оставалось травы, не было потерь зерна и соломы. Затем забирали скошенные рядки и вязали снопы. После обмолота зерно возили на станцию на лошадях. Зерно насыпали в мешки, которые приходилось таскать перед собой.
Время было тяжелое. Света не было, использовали керосиновые лампы или коптилки (наливали на блюдечко растительное масло или жир, из ваты делали фитили и поджигали). Обычно коптилки вешали на крючок, который располагался в центре комнаты. Огонь добывали еще и так. Брали камень и гладкую железку и между ними клали ватку, чиркали между собой, получалась искра, от которой загоралась ватка, от нее поджигали керосинку, печь.
Воду мы брали из колодца. Один колодец был на 5-6 хозяев. Чтобы помыться, делали так: брали золу из печки, на ведро вешали тряпку, клали золу на тряпку и кипяченой водой промывали. То, что оставалось на дне ведра – это и была щелочь. Взрослые купались в хлеве, где находилась скотина. Это было летом. А зимой маленьких детей купали в русской печке, так как в доме было холодно.
Чашки, плошки – все делали сами. Еду хранили в погребе: огурцы, капусту, помидоры. Все солили в кадушках. Весной рубили снег – в это время он был плотным – и опускали в погреб, чтобы в погребе было холодно.
Не всегда хватало еды до нового урожая. Во время войны из-за нехватки муки пекли лепешки из картофельных очисток, добавляли в муку лебеды (собирали зерна лебеды и их перетирали в муку) и добавляли горсть муки ржаной. Весной собирали картошку с огорода, оставшуюся после уборки, которая наполовину была гнилой, но все равно в эту картошку добавляли муку и пекли лепешки. Летом варили похлебку из крапивы, щавеля. Жмых для нас был вместо конфет.
В домашнем хозяйстве были две овцы и корова на три двора, куры. Хозяйство было маленьким из-за того, что нечем было кормить животных. Зерна не хватало семье, не говоря о животных.
С одеждой у нас тоже было плохо. Телогрейка была одна на 2-3 человека. Зимой носили валенки. Было такое, что задники валенок были худыми, приходилось набивать в задники солому, чтобы не попадал снег в них. Одежду, как могли, перешивали из старых вещей. Летом было легче одеться, чем зимой. Ткали на станках дерюжки, из них шили одежду.
Летом и весной собирались на «пятачках», плясали, пели под гармошку и балалайку. Зимой катались на деревянных санках, которые были не у всех. У кого не было санок, делали из коровьего помета на морозе, и мы на них катались. В то время зимы были морозные и снежные. Зимними вечерами собирались с подругами в домах, вязали носки, варежки, сидели вокруг пятилинейной лампы.
Праздновали ли церковные праздники, постились ли? Во время войны пост был в каждой семье почти круглый год, так как мяса было мало. Яйцо к Пасхе было не в каждом дворе. На Рождество вставали рано, пекли блинчики, пышки и угощали христославцев, которые бегали по дворам и славили Иисуса Христа. На Пасху мать заставляла нас разносить молоко тем, у кого не было. Все было в то время скромно.
После войны работали и жили тяжело. Все население, каждый дом, обкладывали большими налогами. Но все знали, что после войны все кругом разрушено, и надо строить и восстанавливать заново. Когда пришли с войны мужчины, работать стало легче. В то время приезжали вербовщики и вербовали на работу. Посылали на стройку или добыть торф, ведь надо было чем-то топить печь дома. Торф сначала копали, сушили, рубили плитами. Работа была трудоемкая, тяжелая. Возвращались люди с торфа больными.
Как относились к Сталину? Пусть в наше время Сталина не все любят. И несмотря на то, что и в то время его боялись, я отношусь к нему с уважением. Он карман свой не набил, ходил в одном кителе. И дети его не были богатыми. И войну всю прошел, не ходил с протянутой рукой. Да, он держал в руках очень строго, но все были дружные: Украина, Белоруссия, Грузия. […]*.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Фонозапись.
__________________________________
* Опущены воспоминания, не относящиеся к теме сборника.
№ 10
Воспоминания М.Е. Головиной, 1932 года рождения, уроженки Староюрьевского района.
2002 г.
Мне в начале войны не было и десяти лет. Помню до сих пор, как провожали на фронт отца. Он был призван одним из первых. До сборного пункта в районном центре Староюрьево призванные шли пешком 16 километров. Я с матерью провожала отца от с. Казанки*, где мы жили, до с. Большая Дорога (3 км). Отец нес меня на руках и все приговаривал: «Манечка, я скоро вернусь». Но видели мы с матерью его в последний раз. Потом были письма с фронта, последние пришли из-под Сталинграда. После Сталинградской битвы пришло известие о том, что Головин Егор Егорович пропал без вести.104 Долго не верилось, что отец погиб, ждали вестей от него во время войны, ждали его после войны, но так больше никогда сведений не было.
Из троих оставшихся детей я была старшей, и мать на меня во всем полагалась. В селе к семье пропавшего без вести относились с сочувствием. Егор Егорович оставил о себе хорошую память, его уважали и помнили. В свое время он возглавлял комитет бедноты, но никто никогда ничего худого о нем не сказал. Он был честным человеком и никогда не пользовался своим положением. «Классовых битв» в селе не наблюдалось, все были практически одинаково бедны. У всех были «кизяковые» избы, крытые соломой.
В войну дети вместе со взрослыми работали в колхозе. В мае занятия в школе прекращались, и весь летний и осенний сезон до конца октября школьники помогали взрослым, работая каждый день. Платой за работу, как и взрослым, была запись о количестве трудодней, за которые в конце сезона выдавали совсем немного какого-нибудь зерна. Оплата это была чисто символическая. Выживали лишь благодаря тому, что соберут с приусадебного участка. Хлеба и картофеля никогда не хватало. Мы выжили в войну лишь благодаря тому, что в хозяйстве была корова. Денег у колхозников не было совсем. Чтобы что-то купить — кусок ткани или какую-то обувь — собирали сливки, сбивали масло и несли по воскресеньям в район на базар. Яйца тоже сами не ели, а отдавали на базар. За какое-то время удавалось собрать весьма скромную сумму денег, за которую можно было что-то купить.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Фонозапись.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
* Так в документе. Правильно — с. Казанское.
№ 11
Из воспоминаний А.Ф. Шуняевой, 1933 года рождения, уроженки с. Николино Инжавинского района.
1993 г.
[…]*.
Во время войны всех семилетних детей обязывали вязать двухпалечные варежки и в посылке отправлять.
В избе полов не было, солома одна. Спрыгнешь с печки зимой водички попить, а она замерзла, и опять на печку под одеяло. Одно спасение печка и была.
Бабушка из сарафана своего сшила мне платье, а дедушка подошьет одни валенки, и семь человек мы их по очереди и носим.
Нам даже не хватало травы для еды. Однажды я несу мешок с клевером, а директор Деречинский меня спрашивает: «Ты чего несешь?». Я говорю: «Дикий клевер. Нам бабушка из него пышки делает». Он говорит: «Давай я тебя подвезу, тебе тяжело». Подъехали к дому, бабушка вышла навстречу, а я говорю: «А это моя бабушка». А директор взял мою маму и повез на отделение. Бабушка начала на меня ругаться — она думала, что маму арестовали. А директор дал маме овсяной крупы и муки немного. С его помощью до хлеба и дожили.
За клевер даже дрались. Ходили за ним за 7-9 километров. Кто найдет -тот зимой и спасется. Начальство были одни идиоты, особенно свои «права качали». Яйца не дашь — конфискация, мука стоит в горшочке — и сразу отбирают, если овцы есть — отдай 100 килограммов. Самоуправство было страшное.
Церкви все порушили. Только в Моршань-Лядовке церковь спас Алеша-дурак. Набрал камней и жил рядом с церковью, и кто из них подходил к церкви, он давай в них камнями кидать. А его стрелять нельзя — он глупой. Ребятишки ему помогали, а наши деревенские его кормили.
Бабушка про Сталина всю жизнь говорила: «Это сатана в сапогах, он не наш — туземный сатана. Ленин в ботиночках всю дорогу, а это прет напрямую».
Председатель наш, чтоб его на фронт не взяли, себе иголками раскаленными пятки прокалывал. Все бабы на него работали, как на помещика. Жена его только еду готовила. А так и полы мыли, и вязали, и валенки валяли бабы. У него волки его овец погрызли, а он сказал, что колхозных, а колхозных себе забрал.
Как началась война? Уполномоченный приехал и объявил войну. Враз мужики стали понурые. Кого враз взяли, кого на уборочную оставили. Отца забрали прямо с комбайна, привезли его домой, он умылся, а машина уже ждет. Уже в сентябре 1941 г. эвакуированных наслали. Дядю Ваню убили106, похоронку прислали, все плачем. Газет и радио не было. Уполномоченные приезжали и сообщали нам, что делается.
В 1943 г. папу ранили, он попросился в Инжавинский госпиталь. В 1944 г. нам прислали, что он без вести пропавший. Сколько крика, слез было! А его под Белгородом ** ранили, он в госпитале лежал до июня 1945 г. Домой пришел на костылях. Осколки мы из него до 1946 г. вынимали. Он нам из госпиталя письмо прислал, а я по деревне с письмом этим бегала, кричала: «Папа наш жив!».
Во время войны бабы снопы вязали. Бабушка махорку делала и в посылке отправляла. В 1944 г. прислали нам раненого с фронта учителя. Он нас всех обучал, всех вместе собрал — и семилетних, и старше. Военная дисциплина в школе была.
Перед победой говорили, что войне скоро конец, а потом приехали верховые и оповещали. Не столько радости, сколько слез. Мужиков нету. С деревни 22 человека брали, а вернулось только 5 человек.
Пленных немцев нагнали полно. Крестная на них готовила, а сама говорила: «Паразиты, я их видеть не могу». А им масло выдавали.
[.. .]*.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Фонозапись.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
* * Опущены воспоминания, не относящиеся к теме сборника.
** Так в документе. Следует читать — Белградом.
№ 12
Воспоминания М.Г. Филатовой, 1934 года рождения, уроженки с. Иноземная Духовка Тамбовского района.
2000 г.
Война началась, когда мне было семь лет. Помню, как принесли повестку отцу. Жизнь началась тяжелая, огороды копали, под скрябку (лопату) сажали картошку, если соха, то везли ее все. Сеяли просо, рожь, сажали огурцы, помидоры и т. д., собирали прелую картошку и варили, пекли из лебеды, крапивы и щавеля пышки (кашку толкли в муку), опухали от голода. В доме спали на полу — матрац, набитый соломой, а также стелили тряпье. Была корова (но не у всех она была). Ходили собирать колосья, мололи их. Сладкое не ели. Бывало, из сахарной свеклы нарежут колесики, насушат и пили чай. Топку таскали мешками, отмерзали зимой на салазках.
На работу пошла рано, с 10 лет. Полола горох, просо. Вставляла палочки в землю, чтобы стебли не падали. Вся жизнь хорошо не прошла. Налоги облагали молоком, яйцами, маслом, сдавали не все, чуть-чуть оставляли себе. В 16 лет работала на болоте — резали торф. Ходила в школу, закончила полтора класса (не было средств). Одежды шили холстяные, башмаки были на деревянной подошве.
Все доставалось очень тяжело. Собирали «кружки» (лепешки). Ставили под тачан, варили в чугунах на кашеварке на улице, спичек не было. Увидим, у кого засветится огонек — шли. Огонек ложили в банку — так и разжигали.
Почитали все праздники — Пасху, Троицу, Рождество и т.д.
Зимой носили валенки — были на двоих. Менялись одеждой, работали на болотах в лаптях.
Мясо не ели. В школе сидели на лавках, кормились тыквенной кашей, солянкой. Полы в доме да и везде были не крашены, лазили на печку. Помню, как училась вязать.
Война кончилась, давали пайки (мука кукурузная, фасолевая мука). Пришел Маленков — стали хлеба давать больше.
Жили, росли, работали. Так ничего хорошего и не видели. Война закончилась, все радовались, но мой отец погиб на войне в 1944 году.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Фонозапись.
№ 13
Из воспоминаний М.И. Тюриной, 1934 года рождения, уроженки д. Малиновка Рассказовского района.
1993 г.
[…]*.
С первых дней войны отец ушел на фронт. Мать ухаживала за скотиной (была и конюхом, и свинаркой, и дояркой), была звеньевой полеводческой бригады. Работали за трудодни (один трудодень — 100-200 гр. зерна). Мама, Е.А. Кочергина и А.И. Давыдова считались передовиками. Во время уборочной брали по 1 га зерновой площади (в основном ржи) и выкашивали вручную, за что получали премию — 3-5 кг зерна. Мама находилась на колхозной работе с темна до темна, все хозяйство было на мне и на брате. Кроме этого помогали маме: она косила, а мы вязали снопами и складывали в копны.
Во время войны в колхозе не хватало скотины. Очень мало было лошадей. Был голод. Ели траву, жмых. Из лебеды, свекольника пекли пышки, варили щи. Нечего было есть самим и кормить скотину. Не хватало рабочей силы. Одни старики, женщины и дети. В это время было очень много волков. Нападали на одиноких коров, овец, лошадей и даже собак. Я помню, был такой случай. Волки загрызли лошадь. Люди ее отбили и мясо раздали на трудодни. Человек 10 умерли с голоду. Больницы не было. Была 4-хклассная начальная школа.
Колхозное поле обрабатывалось своими коровами. После уборки урожая многие ходили собирать колоски. За это избивали и отдавали под суд. За этим следили уполномоченные, которых присылали из района в колхоз.
Зимой было очень много снега. Часто дома заваливало до крыши, невозможно было выйти из дома. Кто первый вылезал, откапывал остальных соседей.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Подлинник.
__________________________________
* Опущены воспоминания о жизни в предвоенные годы.
№ 14
Из воспоминаний Л.И. Моториной, 1937 года рождения, уроженки д. Паревка Инжавинского района.
1993 г.
Во время войны жили мы в Сергиевке*. Это совсем рядом от Инжавино, километра три. […]**. Как война началась, я не помню, может, из-за возраста — мне пяти лет не было. Когда отца забирали, Коли еще не было, он в январе 1942 г. родился, и потом все отца признавать не хотел, когда его демобилизовали. Говорил: «Зачем чужой пришел? Мы будем папу своего ждать».
Папа, Иван Андреевич, сначала на военных курсах шифровальщиков несколько месяцев был, потом его на фронт послали. Служил он где-то в штабе. Рассказывал, что за войну немца только один раз видел, в лесу: наших несколько человек было, а немец мертвым хотел притвориться, его стукнули, он и ожил. В марте 1943 г. под Харьковом отец в окружение попал. Вышли вместе с помощником. Тогда он ноги обморозил, но не сильно. Ранений за войну не имел. Один раз, может, и два отец в отпуск приходил, когда их часть с фронта в Башкирию послали на переформирование. Помню, он отрез на платье привез…
Мужчин почти всех в армию забрали. Может, я тогда маленькая была, но кроме школьного учителя Алексея Павловича и не видела никого.
Во время войны мама, как и все женщины, стала работать в колхозе, хотя дети совсем маленькие были (другие, правда, может, больше работали). Техники и лошадей не было. Пахали на коровах, в том числе на своих, у кого остались. Всю работу делали женщины. И пахали, конечно, тоже они. Коров у большинства людей в колхоз забрали, и от труда они умирали. У нас корова осталась, черная с белым. Отец на войну когда уходил, говорил: «За корову держитесь, а то детей кормить надо». Корова, конечно, от работы тощая была, молока мало давала, но, все-таки, она нас спасала. Траву для нее (а трава тогда высокая была) по речке собирали. Был у нас еще огород в 25 соток — в основном, картошку сажали.
Из того, чем питались, запомнилось почему-то кислое молоко (его мы любили) и картофельные оладьи. Оладьи я не любила и тайком складывала за печку. Как-то раз мама на этот «склад» наткнулась и нагоняй мне устроила.
Отец с фронта несколько раз свой паек присылал. Там были сахар кусковой, изюм, чернослив, еще что-то. Это было праздником. Присылал он, кажется, и деньги. Мы, в общем-то, во время войны жили еще не совсем плохо. Многие ели тогда лебеду. Тетя Полина победнее жила. Она рассказывала, что у них в Ольховке люди с голода опухали и умирали. Кто-то даже из ее маленьких братьев или сестер тоже умер.
Зимой стояли холода. Окна заметало снегом, и в доме было темно, потому что мама только ход расчищала. Не помню, чтоб на койке спала — все на печке сидели, грелись. За дровами мама вместе с тетей Дашей ходила с салазками в лес, километра за три, очень уставала. В сенцах у нас были навалены коренюшки от подсолнечника — ими тоже печку топили.
Несколько раз к нашему дому какие-то люди приходили и запугивали: «Коммунисты есть? Твой муж коммунист?». Этих людей, а они еще к кому-то приходили, народ, кажется, «черными котами» называл. Мама боялась и от страха плакала. Сообщать она никуда не стала, а только с сестрой разговаривала. Отец, когда на время с фронта пришел, старался маму успокоить. […]***.
Уходили во время войны и на трудовые работы. Сестру мою двоюродную забирали на торфоразработки в Платоновку, если память не изменяет. Идти она не хотела и потом оттуда убежала. Ее забрали и посадили на полгода, а то и больше.
Во время войны я в Сергиевке** в школу пошла. В школе детей было мало и только один учитель, Алексей Павлович. В одной комнате 1-й и 2-й классы сидели, в другой — 3-й и 4-й. Учитель из комнаты в комнату ходил. Тетрадей не хватало.
Помню, как папа с войны пришел. Отцовская часть войну раньше кончила, чем Берлин взяли, в Румынии, и потом под Одессой размещалась. Отпустили их не сразу, в сентябре, кажется. Я сидела в классе и вдруг в окно вижу — человек в военной форме прошел. Узнать я его не узнала, но как будто почувствовала, и говорю подруге: «Это мой папа прошел!». Тут Алексей Павлович входит в класс: «Лида, тебя вызывают». Я вышла, отец меня на руки взял.
Хотя некоторые люди с фронта вещи разные привозили, у папы ничего такого не было. Запомнила только, что он две губные гармошки привез Коле и племяннику. […]***.
Личный архив В.Л. Дьячкова. Подлинник.
______________________________
* Так в документе. Правильно – Сергиевское.
** Опущены воспоминания, не относящиеся к теме сборника.
№ 15
Из воспоминаний В.Я. Ковшова, 1934 года рождения, уроженца д. Карай-Марьино Мучкапского района.
2024 г.
– Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста.
– Здравствуйте. Я Ковшов Василий Яковлевич. Родился 15 марта 1934 года. Село – не село – деревня Карай-Мариьно, сельский совет Мучкапского района, конечно, Тамбовской области. Отец у меня Ковшов Яков Васильевич, 1909 года рождения, мать родилась – Ковшова Марья Ивановна – родилась в 1910 году.
– Отец воевал?
– Это уже позже туда. Да, война началась, его забрали в 1941 году.
– А мама с вами осталась?
– Да. Ну, там какой еще вопрос будет у вас?
– Ну да, у нас в форме беседы, поэтому, собственно, я сейчас задаю, вы можете отвечать.
– Ну давайте.
– А другие члены семьи? Братья, сёстры?
– Бабушка. Вот это. Мама, отца, бабушка. И всё. Итого набирается. Да, другие члены семьи. Это я имею в виду на июнь 1941 года. Первый брат 1930 года, Александр. Второй брат 1931 года, Николай. Третий человек – это я, 1934 года, марта 15. Четвертый брат, Алексей, 1937 года. И сестра – она родилась 25 мая 1941 года. Итого у нас набирается 8 человек на период начала войны.
– А как вы узнали о начале войны?
– Воспоминание на всю жизнь запомнилось. У нас деревня небольшая, где-то 40 домов, помню – лошадей всех собрали из колхоза на улице и комиссия отбирала на фронт. И узнали, что надо лошадей на фронт. Семь лет было у меня, какая война? Откуда я знал, что такое война? Но помню, что на телегу отца посадили, других призывников, и повезли в Мучкап. А я прокатился на телеге. Лошадей забрали и мужчин, призывников. На второй день, когда кушать стали, завтракали, обедали, не помню как: мама, а где папа? Отвечала… я не помню, что отвечала, куда уехал. На второй день – где папа? Это не просто, что вот, где папа, а получалось, что отец в работу, мама в работу, мы же маленькие были, семью содержать. Бабушка уже не работала. А когда отец ушёл, уже меньше уже дохода было. Там раньше работали за трудодни, осенью выдавали. А осталось нас семь человек уже, продуктов не хватало. Вот трудность такая.
– А учёба как?
– Что?
– Учёба как, школа?
– Да, учёба. В этом году, в 41-м, пошёл в первый класс, по четвёртый у нас начальная школа была, 4 класса, а учительница одна, она вела все 4 класса. Потом, ну что воспоминается, уже война началась, она обращается, учительница: «Ребят, надо деньги собрать, у кого возможность, танк надо строить, помогать нашим войскам». Ну не помню сколько там, какие деньги, какая сумма. Вот, вспомнилось так. Ну в основном этот период учился 4 года; к нам приехали украинские беженцы с быками, у нас в школе они учились – девочка одна и мальчик – мы, вот помню, учились вместе. Ну еще 7 лет, еще маленькие были, какие воспоминания, только запомнилось такое.
– А вот развлечения какие-нибудь были?
– Развлечения? У нас развлечения какие? Лапта была. Ну потом уже позже я вот скажу какие развлечения. Мы вечером, там, околица называется, у нас луг такой, вечером ходили под балалайки, там, девчата частушки пели, танцы, мы бегали. Ну потом, когда уже после повзрослел, когда 10 лет, вот на улице пробегаешь до трех, в сарае ночуешь, это в три часа приходишь, а в четыре часа приходит мать –Вась вставай! Пахать порой надо на быках. я вставал – выходит, на сон один час. Конечно, там по полю целый день ходить, это было. Думаю, на следующий вечер не пойду – устал; вечер приходит – опять идешь и так вот. Вот так, значит, когда зимой мы учились, а летом, уже после 10 лет возраста, уже работаем. Отца нет. Мужчин в деревне нет. Мужская работа. Вот так. Пахать надо. Ну, еще какой-то… Ну, по пути раз я уже сказал, что опасности какие. Вот когда на быках, допустим, с плугом едешь на базу верхом, держать между двух сзади, я не удержался – упал, и между мехами проскочил. Живой остался, руку вот порезал, вот там вот нашел. Вот такие трудности. Все лето мы работали до сентября.
– А вот какое участие в войне на фронте и в тылу?
– Отец на фронте был, а мы в тылу. Мы как дети войны работали. То, что я вам рассказываю, я всё лето, всё лето работал. Никаких там лагерей или чего-то этого не было.
– А вот как часто приходили известия с фронта?
– Известия, там в деревне, самая соседняя с Саратовской областью,глушь, никаких там это. Мать неграмотная, отца нет, только треугольнички присылал отец. Ну еще момент такой был вот опасности как этот в каком году не помню, забыл не забыл, а это попал пуля в каком. Там у нас речка небольшая, Сухой Карай протекала – там пескарей, линей, я брал грузила на удочку – надо свинец, свинец доставал из пули, я наклонял, разбивал, свинец вылезал и в какой-то момент взрыв произошел! Оказывается, разрывная пуля была, молотка нет, молотка нету, пули нету, я оглох, испугался – мать ругать будет не знаю за что, вот такая вот опасность. Ну потом, если по пути так вот по трудности какие: нас пять человек детей, зимой особенно трудно было в степи топить чем – навоз. В деревне без коровы нельзя было жить – корову кормила и, можно сказать, отапливала. Навоз получался, бабушка всегда на зиму готовила навоз топить. А купались как – в корыте зимой пять человек матери надо искупать. Искупать нас там час-два. А вопрос жизненный: надо одеть нас. То отец сапожник был, он нам подшивал. Вот – одеть. Обуть я сказал – одеть. Выращиваем мы коноплю, из конопли волокно, из волокна вот кудель бабушка привезла на прялке. Суровую нитку, потом мы на стане холст делали сами, потому что магазинов нет, одевать надо 5 человек детей. Потом красили и шили сами, вручную, бабушка только отдельно была. И вот идешь, куртка такая, чтобы похвалиться – всё, ну вот так вот.
– А что входило в каждодневные обязанности?
– Ну, обязанности у нас, да – мать на работе, а мы дома. Бабушка руководила нами. Ну, зимой там почистить за коровов, напоить вечером. Летом у нас Сухой Карай речка, мы наверх поднимались с вёдрами, такой участок, огурцы поливали, помидоры, нашу капусту. Это наша обязанность была. Это обязательно. Постарше сын, конечно – мы помогали. Ну у нас еще что, я вам сказал: вечером на околицу ходили, балалайку уже чувствуете, балалайку купили, а почему балалайку, потому что у нас отцова сестра была, тетя Настя, у них патефон был и я послушал старинные песни такие и потом, если вам поиграю, вот музыка сохранился, память сколько, 80 лет назад музыка у нас сохранилась. И так любовь к музыке на всю жизнь у меня сохранилась. Вот. Вот такие воспоминания.
– А какой самый лучший, счастливый день был? Ну, даже… Ну, приятный, то есть, день.
– Ну, приятный. Отец приехал. Это вот Божий дар, я сейчас скажу. Когда мы закончили четыре класса, отца еще не было, мать – ребят, учиться, учиться. Благодарность вот и Царствие Небесное родителям моим. А чтобы учиться, надо за 8 километров в север, в сельский совет там ходить, за 8 километров. А если через другую деревню, по дороге – 10 километров. А если напрямую, через речку, через поле, мы там через лощину – восемь километров. Восемь километров туда, восемь оттуда. Шестнадцать километров я проходил в день три года, летом. Ну, воспоминания никакие. Осенью идёшь, значит, в сентябрь, кочан капусту срубали, прятали в лощине, вот оттуда шли, кушали. Вот. Это осенью. Зимой, зимой вспоминается как-то, на память:
Однажды в холодную зимнюю пору
Я из дому вышел, был сильный мороз
И на лыжах пошел я через поле в школу
И сильно-сильно отморозил себе нос!
Ну рифма так, а так я не нос, а вот левое ухо отмораживал пришел в школу к учительнице – а чем поможет! Думал, отвалится. Нет, нормально, сохранилось всё, вот так вот.
– А в школе вот какие предметы были трудные?
– Я любил учиться, да. И немецкий язык был, и химия. Все учителя хорошие были. Три года ходил.
– Химию любили?
Да, мне нравилось. Там библиотека была, нам книжки давали домой, мы читали. Вот. А потом зима. А в марте через речку перестали проходить. Вот отталина, на Сухом Карае там уже. И я в одной руке держал книжки, в платочке завяжу. А в другой руке, так, пирожок. Через речку и провалился, солдатиком. На локтях, значит, это задержался. Брат, он постарше, вытащил меня, значит. Переоделся и опять пошли в школу. Вот такие периоды были. А в апреле, когда уже сев начался, мы со школы шли, собирали на повороте, сеялка, горох съели. Мы с собой вместе с воронами собирали горох. Две горсти домой приносил, мать варила суп. Потому что очень трудно было с питанием. Ну, на зиму огород был 40 соток, мы заготавливали капусту, дубовые бочки такие в погребе, хранились огурцы – пожелтели, чтобы не расплавлялись там в бочке-то. Вот всё питание было. Значит, бабушка готовила там овощи, картошку, кажется, молоко.
– Ну еды хватало, да?
– Да, вот у нас хлеб был, у нас хлеб. Подолгу в печке наготавливали на всю неделю, такие вот кругленькие, небольшие.
– А вот помощь соседям помогали? Вот кто остался?
– Ну, я, когда в за огород тыкву возил на тачке, вот они тоже пожилые были. Вот. Ну, так вообще в деревне друг другу помогали. Крыши соломенные крыли, так вот, очень дружно.
– А какие были самые трудные минуты?
– Трудные минуты? Всё это работа.
– Работа.
– Мы в четыре часа, потом на обед перерыв был, и когда солнышко садилось, отпускались мы. Вот так. И всё лето мы работали. Ну, как понять работали? Сначала пахали, потом урожай созрел, мы снопы возили… Нет, снопы… Косил, косил… Там мать вязала снопы, мы снопы в копну стаскали. Потом я на телеге возил эти снопы в эту… на, ток, в скирду. Потом зерно немного там подсозрело в скирдах. Молотили на барабане там. Наша задача была, значит, вот эту вязку, соломку, после барабанную вязку делали. Мы сзади за омётом на быках отвезли. Вся эта солома – в омёт, всё это складировали.
– А были сборы для фронта?
– Сборы… я сказал, что это было, не помню сколько, какая сумма там, сколько человек, потому что собиралось.
– А продовольствие?
Продовольствие – трудодни. Первая заповедь государства. Мы, значит, вот зерно на ручной веялке, там накрутили, засыпали в мешки, возили в госпоставку на хлебоприемный пункт в Мучкап. А нам сколько останется! Это уже после, засуха была в 1946 году, нам ссуду дали, а ссуда, чтобы возвратить зерно через год, ссуда. Если посчитать, на каждого 8 килограмм на год. Вот представь, 8 килограмм зерна на год! Вот как обходились, так и обходились. В основном батя работал, бабушка с нами, батя пришел, пять человек, Царствие Небесное.
– А какие настроения были в тылу? То есть были там какие-нибудь труженики прямо или наоборот дезертиры? Как вообще относились?
– Работали все. Жаловаться на что и кому жаловаться, зачем? Работаем. Бригадир на ночь задание дает, мы его узнаем, кто на что способен. Вот так вот. Ну, у нас потом, значит, пришел родственник, дядя Коля, без руки, вот я помню. Потом приходит…
– В каком году?
– Ну, я уже не помню. Я знаю, что он без руки. Потом надо косить сено, эту траву, он одной рукой, вот. А мы, значит, траву… Мать работала, а где сено, чтобы коров прокормить зимой? Я после, когда на плугах пахал, значит, на украинских быках, там повитель накапливалась на лемехах, я их собирал, собирал за весь день. А когда домой – я на вязанке, на верёвке через плечо приносил. Вот так собирал сено для коров на зиму. Вот такая трудность. Ну а вечером подходит, я уже говорил. И раз… У нас пять человек, я же сказал, детей было, и рядом дом родственников тоже пять. Уже десять, а за всю деревню собирались. Настроение такое было.
— А вот отношение к местной или центральной власти, или в целом к Сталину?
— У нас кто? У нас власть далеко была. У нас задача — работать. Работать, и вот я вам сказал, зимой учились, летом работали. Потому что женщины и дети работали, мы дети войны. Никаких не было куда-то. Как сейчас в лагеря….
– А как отношение было к врагу, то есть среди населения?
Мы его не видели, врага. Мы работали, работали, все. А потом взрослые, отец. Вот. Мы далеко ушли, как говорится. Фронта там не было у нас.
– А отец потом не рассказывал, какое было отношение к пленным, возможно?
– Нет, он не рассказывал. Он в сорок шестом году, помню, в ноябре пришел. Сумку с яблоками, он с Сухуми был, дай Бог. Это Бог его сберег, и мы потом, потом уже, ну с отцом он и работал, и обувал уже нас, и сапожник – уже легче, и мы уже повзрослели. А задача семьи: вот вы видите на фотографии – учились. Ну, если продолжить, когда семью: три года я ходил вот в Северовку, а потом семь, а надо дальше учиться, а у нас в Уварово здесь дедушка был, материн родитель. Я три года тут, на квартире у дедушки был. Восьмой, девятый, десятый. Вот так было. Опять приезжал, я помню, и мать, значит: там мужиков не откосить, там овёс. Я помогать! Вместо мамы я сам пойду. А что, слабенькие мускулы-то (улыбается). Немного отстал, но на второй день уже не отставал. Косил овёс. Вот. Как я по возможности, вот что работали мы, помогали. Не помогали, а уже работали сами. Бригадир уже знает, кого куда посылать.
– А вот за новостями же следили, получается, как враг там подступал?
– Нет, у нас новостей не по чему было следить. Мы работали, вот вся трудность, работали.
– Ну даже вот из села в село, нет?
– Ничего не было у нас. Саратовская область у нас через два метра, два метра перейдешь. Вот я помню – трудность вы говорите – перейдешь, там за 8 километров, тоже деревня. Они когда приезжали сюда, косили урожай, а я потом ходил на Саратовскую область, там поле такое, степное, сусликов ловили, кушать. Я помню, капкан стал ставить, один пошёл, там недалеко, и мне из ног вот это… Я два часа без памяти лежал, потом к вечеру очнулся, пришёл домой. А чем там лечить-то? Ну, как говорится, всё благополучно. Сусликов кушали мясо, потому что такого нету. Если свиней – надо кормить, зерна, урожай слабый были, кормить нечем. Вот, ну когда по праздникам, если овцы были, шерсть была, из шерсти байковые вязали, вот, по праздникам мясо только кушали, когда там, ну, были Казанская – церковная праздник, седьмое ноября, а вот всегда колхоз выделял там мясо. Мы на десять дворов собирались, обед праздничный устраивали.
– А вот кроме украинцев ещё кто-то приходил, беженцы?
– Нет.
– Только вот они?
– Да.
– А как вот их расселяли вот здесь вот, получается, да?
– Приехали около… У нас, я бы сказал, семь человек, нам тесно в двух комнатах. А где одинокие или там это… Вот так и жили. Всё, дружно жили. Совесть, что работать надо, фронт надо поддержать. Вот так.
– А вот как воспринималась победа? Как вы узнали об этой новости?
– Воспринималась, я вам сказал, такие сигналы. Тоже один Поплевкин, Василий, пришел, обгорел в танке. Он потом в колхозе шофером работал. Вот, дядя Коля. А потом мы после узнали. Материн брат, дядя Филя, он в Уварове тут, дедушкин сын – убили. И сейчас на стенде его фамилия Мельчиков Филипп Иваныч. Я всегда цветы ношу. Мой дядя погиб там. А второй дядя, дядя Васе, фельдшером работал, тоже фронт, он на фронте. Фельдшером работал там. Фельдшером работал, он живой остался. Ну вот, Бог спас моего отца. Потом брат по годам уже после войны, он в строительный институт в Москве поступил, остался там. Второй – государство учило нас, степень давали. Второй брат с 31-го, пехотное училище Тамбовское окончил, послали работу в Москву, начальник охраны Генштаба Вооруженных сил. Я с 34-го года рождения, поехал в Сталинград в сельхозинститут, закончил, получил диплом. В Саратовской области отработал 3 года, потом получил 2 года, я работал там МТС, а МТС в колхоз передали. И там, в Саратовской области, когда учился там, баянист – он не баянист, а гид в музее обороны Царицына – баян у него был. Я потихонечку подбирал, научился, а когда в Саратовскую область поехал, заработал – МТС я работал заведующим мастерской – деньги послал в Москву брату, прислал баян. Там я два года… Когда уже в Уварово приехал, приехал в 1960 году, мы с отцом дом привезли из деревни сюда, здесь вот. Вот баян со мной, так всю жизнь я с этим баяном. Я на слух всю музыку и даже вот и стал и попевать в такие вот да вот интересные прям такие слова такие. Такие лирические песни – они стихи и создавали, но не на каждое стихотворение создается песня, чтобы и вы убедитесь тогда. И когда вот я играю на баяне, и пою, и слова приятно слушать, и музыка.
– Вы помните, когда отец вернулся с фронта?
Я помню, что вернулся, яблоки в сумке привез, рады все! А мы на коньках… Какие коньки? Мы деревяшку вот такую, брусочек, проволочку вот так обкатывали, вот так вот кругом. И шел буровом в дырочку, просто отметил, просверлил, на валик привязывали и на речке на этом катались. Назад нельзя, потому что опоры нет, она круглая проволока, только вперед, только вперед! Вот такое зимой развлечение. Летом, я вам сказал, на луг, вот в лапту играли, вот такие. Больше развлечений никаких, какие там – работали.
– А когда с фронта возвращались, У вас здесь устроили что-нибудь? Какой-нибудь праздник, что вернулись?
– Я не помню. А кто у нас? Да потому что когда отец, вот этот праздник. А таких я не помню, чтобы сказать.
– А вот после войны, получается, вы переехали сюда, да?
– После работы, да. Просто работал и приехал. У меня уже опыт работы был, я два года. Потом я поступил на область, элеватор. Общий стаж у меня 48 лет трудовой. В том числе 45 лет – главный инженер в области элеватора работал. -А в каком году вы женились?
– Да в 64-м году женился, коротко так поженились. Супруга с Мичуринска приехала, у неё сестра работала, поженились. Она была пищевой техник в Мичуринске, закончила, работала мастером цеха безалкогольных напитков – в 33 года выпускала на всю область! И вот так… Бог ее убрал в 2007 году. С тех пор я один 16 лет проживаю. Вот. Мне, как сказать, вот видите, Николай Угодник помогает, и её дух там. И музыка всю жизнь. Когда трону, я… Играю.
– А вот в советские годы были же вот гонения на церковь. Как вот с этим обходились?
– Что?
– В советские годы же нельзя было в церковь буквально вот ходить.
– Ну мы учились, в церковь… Мы не ходили в церковь. Мы учились и все.
– Ну то, что вот религиозные…
– Ну потом да, бабушка там это… Воспитали как… Лягушек нельзя убивать, корова молока не будет давать. Птичек нельзя, это ласточка-касаточка, красненькая здесь вот, под шею. Она с печкой в дом поживает. Это на всю жизнь! Не наказывай, ничего. Сказал слово, вот так воспитывает. И на всю жизнь. Вот так.
– А вот в первые годы войны, то есть после войны точнее, как вообще обстановка была?
– Все та же, запомнился 46-й год – это страшное дело: кушали мы конский щавель, крапиву, хорошо что молоко нас выдерживало, хлеба не было. Я вам сказал, сусликов ловили, с капканами ходили, ну пережили мы этот год и все вот. 5 человек, я вам сказал – даже вот брат еще, ему год рождения он, среднее техническое, это дочка, извините, сестра, в 41-м родилась, она борисоглебский техникум закончила, начальником рафинадного цеха работала, вот у нас государственно нас учило, стипендии платил, вот, и все мы, как говорится, с образованием и все. Мы сказали, что учились: учило государство 15 лет, а я в государстве 48 лет, долг свой выполнил. Благодаря всем. Вот. Ну всё, там много таких вопросов. Это можно просто в частной беседе, там отдельно. Нас спасает сейчас, что под руководством Сталина бомбу мы создали в сорок девятом году. Она нас сейчас спасает. Боятся все это нас отслеживать.
– А что вы еще хотите рассказать, добавить? Касаемо военного времени.
– Девятое мая праздник. Я момент такой:
Вспомним, как восемьдесят три года назад мы отцов на фронт провожали!
Вспомним, как 83 года назад мы украинских беженцев встречали!
Вспомним, как мы, дети войны, ярмо на быков надевали,
Потом на них пахали, а потом урожай собирали,
Возили на ток, и хлеб на фронт отправляли.
А теперь… А теперь фашисты снова голову подняли опять,
И нашим детям, и внукам приходится Родину спасать.
Как баллада можно назвать, да? Слова какие! Ну всё в памяти у меня, я вот и вам докладываю.
– Потому что близко.
– Да, близко. Ну а ещё что сказать. Вот когда идёшь, смотришь: дети красиво одеваются. Смотришь в автобус: дети в городе, детей возят, а вспоминаю сразу, как за 8 километров хожу в мороз. А еще, может, и не надо это говорить: в автобусе с двумя сумками на рынке возьмешь, в автобус сядешь – мест никто детям войны не уступит, и даже эти места, раньше написано – инвалидные места – сейчас нету. А кондуктор говорит – уступите место – «а мы тоже платили за билет»! Вот обидно, вот дети войны, и что – дети войны? Одно название только, всё!
– Потому что мало обращений, вот сейчас наш проект обращается.
– Нескромно говорить, несколько четырнадцати регионов, что дети войны, выделяют по 1200. Мне кажется, неудобно говорить, что ли, я вот инфаркт перенес, мне лекарства пить, очень дорого обходится, но я не буду говорить, сумма какая вот. Но пенсия у меня хорошие. Я после выхода на пенсию не в 60 лет пошел на пенсию, а в 70 – 10 лет. Поэтому у меня один процент прибавлялся в пенсии. Вот это мне трудолюбие нас, родители приучили нас. Мы, как говорится, я вам сказал, 48 лет работал.
– А вот отец после фронта он рассказывал что-нибудь?
– Нет, он не рассказывал, там работы нет.
– Он не хотел рассказывать?
– А мы как-то… Сначала маленькие были, потом… но он связистом был. Ну, конечно, у нас в СССР 27 миллионов погибли, в нашей деревне… Я вам сказал, эта баллада, фашистов снова подняли опять. Опять что, опять… и опять тогда Гитлер организовал всю Европу, и сейчас Америка организует теперь руками Украины, вот так вот.
– А что вы еще хотите добавить, касаемо военного времени, именно вот Второй мировой?
– Вот что я сказал в основном, что хочется сказать: что наше правительство учили нас, всех людей. Хочешь учиться – учись! Трудности, я сказал, как период: 15 лет, и все на квартире. Три года сюда ходил, три года в детстве на квартире, пять лет на квартире в Сталинграде я учился, два года в Саратове, все на квартире. Вот такие трудности. Хотел кушать. А когда в Сталинграде учился, я помню, что за 5 лет мне пришлось только 300 грамм колбасы кушать. У меня денег не было. Макароны, кабачки, вот на это так существовали, такие воспоминания.
– По идее, я у вас все вопросы запросила.
– Все, да? Ну я тогда не буду. Да, вот я сказал государству, я говорю, Сталин нас учил. Вот там есть Сталин. Он всех наших детей выучил. Ну не он, а правительство. Социализм. Я при социализме жил, а сейчас я не знаю, при каком строе живу. Что такое социализм? Это бесплатно учебу учили, даже нам деньги платили вот так вот. Закончилось – и тут три года, работу дали, иди работай, вот так и квартиры у меня, я бы сказал, в Москве брат – Царствие Небесное – трехкомнатную бесплатно, по очереди – сынок народился, там дети прибывали – вот такое… Сейчас этого ничего нету, вот как хотите, так и… Я в 71-м году, сын народился, Егор Васильевич, вы знаете, он успел закончить Саратовскую юридическую академию, там у вас фотография была, у них меньше там работать надо было, но опять – подполковник, помогает, спасибо, что материально, и так звонит каждый вечер.
– Ну всё, получается, интервью закончено. Спасибо большое!
– Спасибо вам, что вспомнили.
Архив АНО «Тамбовское библиотечное общество». Аудиозапись.
№ 16
Из воспоминаний З.М. Пановой, 1938 года рождения, уроженки с. Криволучье Красивского района.
2024 г.
– Мы продолжаем цикл интервью, посвященный воспоминаниям детей войны. Здравствуйте!
– Здравствуйте.
– Скажите, пожалуйста, а как вас зовут?
– Зоя Михайловна.
– А фамилия?
– Была, девичья?
– И девичья.
– Трубицина Зоя Михайловна.
– Трубицина Зоя Михайловна. А откуда вы, из какой деревни?
– Село Криволучье.
– Это далеко отсюда?
– Да, километров 13.
– А каков был состав вашей семьи на начало Великой Отечественной?
– Состав нашей семьи был, значит: мама и папа, старший брат Борис, второй брат Алексей Михайлович, а я последняя самая уже. Вот старшему было шесть лет, когда началось, потом второму четыре, мне два.
– Зоя Михайловна, а вашего отца забрали на войну? Да. В 1939 году его взяли. Это я хорошо знаю. Как, по рассказам мамы, она сказала, его взяли в 1939. На какой-то вот…
Наверное, на польскую.
– Нет, не знаю.
– На финскую значит?
– Наверное. Вот, а вот не помню даже, не знаю. Как нет его, как сказать, как-то в армию. А тут он отслужился, а это опять, как будто опять его взяли. Значит, он там чуть-чуть пробыл, но… Получил он, как… аппендицит у него, значит, сделали ему. Домой вернулся. Аппендицит сделали и уехал уже. Опять сразу, тут же, в сороковом году. Дальше он уже… Там, где он был, ну, а он погиб уже. В Старорусском районе, под Ленинградом. Деревня Кобыловка. Шестого мая сорок второго года. Вот, похоронен он, я тогда писала, в Сельской жизни, и мне ответ пришел, что он похоронен в братской могиле Старорусского района.
– А приходили ли домой известия от него, пока он служил?
– Пока служил, у меня и сейчас письма есть. Там просто непонятные. Я могу вам их показать. Ну, тут просто песнь «Здравствуй» и всё. Вот это… Ну, тут много вот этих песен. А вот это письмо от маминого брата. Он погиб вот. Он присылал конверт. «Прости, Маруся», как-то он называл маму мою Марусей, чтоб передать ему письмо с платой. Она, помню, платила рубль, платила. И вот он не женатый, так он погиб.
– Это письмо 27 августа 1941 года.
– Да они, наверное, вот тут.
– Маруся, я вам, во-первых…
– Здравствуйте.
– Это начинается: Маруся. Может быть, просто…
– Маруся, это жена.
– Да, да. Я вам во-первых со… Что я в настоящее время нахожусь… в здрав… И вам желаю…
– Можно было бы, конечно, если разобрать, если обратиться к графологу, он, думаю, он бы разобрал бы хорошо. Нет, это надо еще снова бы как-то забрать. Нет, а их можно отсканировать или сфотографировать очень хорошо. Вы можете обратиться к графологу, кстати, потом его поискать, если хотите, к филологу. И они могут разобрать это все.
– Да тут не поймешь, вот уже все, вот это сколько-то… все эти письма. Это такой конвертик. Тоже он погиб, он неженатый, Попов Иван Гаврилович. Пишу письмо. Я не знаю, где это письмо.
– А это извещение.
– Посмотрите, это кто? Попов Иван Гаврилович, правильно?
– Да.
– Нету повестки, извещений на папину…. Я отдала внуку, он живет в Питере, и вот хочется на братскую могилу съездить туда, узнать все хорошенько, что действительно он там похоронен. Но вот отдала документы. Известия пока нет. А это я так и берегу в память. Это уже вот сорок… Ну, с сорокового год, считай. Да. Пусть они плохенькие, я…
– Это уже восемьдесят четыре года.
– Да, вот. Вот я их… Они были когда у мамы… Мама умерла, и я всё собрала и взяла. Вот. Вот. Была я, конечно, маленькая, так я и не помню всё. Вот про этого, про Ивана Гавриловича я помню. Он пришел ко мне. К нам пришел туда. Его опосля брали, уже папу убили. Пришел к нам. Ну, говорит, крестница, давай, говорит, собирайся. Все, последний раз я тебя беру. Такой момент, такой фрагмент. И он меня поднял, я его вот так вот обняла его. Вот пошли мы как будто к нему, от нас к нему, где он живет. А вот не помню, дошли мы и нет ли, и как провожали – ничего не помню. Всё, и больше от него не слуху.
– А вам тогда, наверное, было четыре года?
– Ну, наверное, не четыре, а три, наверное. Или три с половиной – вот так вот, наверное, было. Вот я вот это хорошо помню. Потому что я его в последний раз отвела.
Вот, а папу, я сейчас вспомню, мам сказала, в 39-м году взяли его на действительную какую-то армию. Что это за действительная, я вот не знаю.
– А, нет, это просто человека, значит, взяли в… Служить в армию. Просто действительная военнослужащая служба, его отправили просто служить. Он, наверное, до этого не служил.
– Служил!
– Странно.
– Да, вот я тебе про то и говорю. Служил, он отслужил, потом его взяли. Потом его взяли, и вот он там, а потом уже после операции его уже направили. А где он еще как сразу был? Вот этот я запомнила. Что я вот помню, то и…
– Расскажите, пожалуйста, а как ваша семья жила во время войны? Может быть, у вас уже старшие братья работали?
– Нет, сразу не работали. Вот, а потом старший брат, он, как сказать тебе – учился, он как в первый класс пошел учиться, во второй. А уже тут уже как будто не на что было учиться, и что-то он говорит – мам, я буду лучше работать. Я помню, он овец пас. Овец он пас, и приходит и заработает. Мама, я сегодня много заработал, девять трудодней!
За день? Это очень много!
– Нет… это очень много. Вот 9 трудодней. А зимой он уже убирал их, и вот этот солому, как они салон накидывали, он ее собирал и через веревочку в вязанку приносил домой. Мы жгли, печку топили. И лес у нас там был близко, хорошо. Но в лесу такой вот хворост. Надо нарубить. На него никто, конечно, не ругается, но он плохо горит и сырой ещё. А мы их возьмём, как будто дубочек под этим, дубовенький, дубовенький, а за него штрафовали. А потом уже, когда скотинка у нас появилась, корова, овцы, Мы навоз сушили, и этот навоз собирали, ставили в стог. Вот старший брат у нас складал, как вот солому складает в стог. И этим мы топили.
– А как вы кормились во время войны? Может…
– Огород был у нас ночью. Две овцы у нас было. Огород у нас пятьдесят соток, хороший был. Мы, как сказать тебе, не голодовали. Наша семья, а некоторые уже люди голодали резко. А мы вот, наша вот семья, как говорится, какие вот… мы картошку, помню, мама продавала, такие вот мерки были, такие тяжёлые какие, прям, как я вспомнила, это стоко тут стоит, это стоко, вот там стоит, продавали, питались. Ну, нас коровы большинство кормило. Молочко есть. А хлеба давали, как я вот помню, совсем мало. Там сколько заработаешь в трудодни? Сколько на трудодень делили и давали. Это я вот не помню. Помню я только один случай. Недалёк был ток. Такой прямо хороший, пшеницу там молотят, бабы такие, молотилки были. И вот молотили они и несут. А я приду, а она мне возьмет карманчик, насыпет. Дочка, ты не говори, что я там насыпала! А там какой карман, мне 4 года. Ну нет, ну мы, как сказать, ну а люди есть очень сильно голодовали. Ну, все выжили, Бог дал.
– Ну голодных смертей не было?
– Ну, всё-таки были, ну а так вот, что поголовно – нет, нет, особо не скажу, нет, нет. Это я уже пошла, в первый класс уже я тут пошла, ну, конечно, плохо-то жили, но всё-таки, как сказать – терпимо. Мы считаем так, терпимо.
– Зоя Михайловна, а вообще, можете сказать примерно, сколько людей голодало в деревне? Вот в процентном соотношении, может быть половина, может больше, меньше?
– Да, половина точно голодала. Половина, да, голодало много. Собирали, вот река у нас Ворона, она разливалась, а когда картошка плавает – не все выкопают, а какие-то остаются – когда вот она разливается, Выплывает эта картошка. И вот мы ее вымывали и пекли. Туда добавляли, приготовляли… Как сказать тебе… Вот траву, как ее называют? Целую? Не, целую.
– Лебеда?
– Лебеда, лебеда она. И делали из нее пышки. Да. Желуди. Считалось – хороший желудь тоже был.
– А Ворона? Там тогда было много рыбы? На рыбалку люди ходили?
Тогда нет. Ну вот, в Криволучье мало. Сюда, в Инжавино, это уже тут было. Вот, Инжавино недалеко. А, ну, там нет. Там нас у мало было. Ну, всё равно у одного, например, вот, где я жила, вот, тут была лодка, но всё равно ловили, да. Ну, мало её как-то было. Почему, не знаю.
– А скажите, а… Как вы посещали школу во время войны? Вот вы, ваш старший братик, вот хватало ли людям учебников?
– Давали, давали, чернильницы какие-то были. Всё мы сами покупали, по-моему. Всё сами покупали. Там, я помню, букварь, это всё давали. Ну, покупали мы, нам сказали купить. Вот что, вот что – всё это покупали.
– Как относились в вашей деревни к советской власти, к Сталину? Были случаи, когда ругали их?
– Нет, у нас не было. Все хорошо было. Даже разговоров быть не было. Замечательный пример: Я помню, мы сидели, кино смотрели, о чем – какое-то показывают кино, не знаю, там, Владимир Ильич Ленин. А меня, как я вспомню, дядя спрашивает, «Зоя, ты узнаешь, кто это есть?» Я говорю – знаю, кто: Владимир Ильич Ленин, как я вспомню. Я хорошо, к власти мы относились неплохо, хорошо.
– То есть люди понимали, что тяготы войны связан не со Сталиным, а связан с самой войной, с нападением Гитлера.
– Ну, понятно, да.
– А как к немцам относились?
– К немцам? Как к немцам? Немцы есть немцы, ты видишь? Я вообще не могу тебе это сказать, как к ним относились. Но все равно как-то мы ненавидели их.
– А различали как-то немцы, итальянцы?
– А то и нет, и как-то узнавали прямо. Даже вот какой-то один был там у нас немец, что ли. И все от него как-то бегали. Бегут, и бегут, и бегут. Воронцов – с ним как-то никто и не разговаривал.
– А кем он был?
– Да никем он. Я даже не знаю, кем он был. Прямо никем он даже. Бегут от него.
– Он не учитель?
– Нет, нет, нет. Не учился. Если бы он учился, то я бы дело было другое. Может, он другую политику бы вёл. Не знаю.
– А были ли у вас в деревне какие-нибудь… Военнопленные, может быть?
– Нет. Военнопленные у нас не были. У нас только в Криволучье была одна женщина, тетя Юзя ее звали.
– Тетя Юзя?
– Да. Тетя Юзя была она. В общем, она беженка была из Белоруссии, и вот она дошла до нас сюда. Муж у неё женился, дядь Коля её, по-моему. Но он тоже ушёл на войну. Или нет, не так! Она приехала с ним, что ли, с Белоруссии, а он как-то попутно, и где-то был на войне, и они где-то там повстречались. И вот он мимо ехал, ну, какое-то заехал мимо нашей Тамбовской области, и заехал домой. И он её тут оставил. Вот она тут, она осталась, а сам уехал опять на войну и не вернулся.
– А как к ней относились?
– Все хорошо. Все даже прям замечательно. Она нам дня два… Прям очень даже хорошо.
– А она как относилась? Она работала в колхозе?
– Такой же человек, только у ней акцент другой, белорусский, вот как сказать. А так вот все. У нее тут был пять… Два сына и три дочери, но сейчас уже их никого уже нет. Замечательная женщина. Прям это вот у нас, в моём посёлке, где я жила.
– А может быть вы помните, она жила, она у кого-то квартировала или ей колхоз выделил дом?
– Нет, они сразу, как сказать тебе… он привёз её к своим родителям, к своим родителям. А родители тоже, один домочек там, а потом они потихонечку, потихонечку, ну, в общем, уже касаясь свёкра, как-то там домочек какой-то небольшой. Помню, семья была пять человек, а они два окошечка сделали, и в ней жили. Вот так вот. А где же, что тут спрашивают, кто тут что даст? Это война была, это что? Нечего было давать. Нечего было давать, сынок. Жили. Бог миловал, слава Богу. Пережили. Ничего. Война.
– А как вообще люди помогали друг другу, выручали друг другу?
А как же – выручали, да. Помогали. Знаешь, вот какой пример. У меня нет спичек разжечь. Печка, ведь раньше печки были, сейчас печки. И вот увидим, где дымок горит, ага, у них теперь есть жарок. И идём, такая палочка была, идём, у нас где-то дась, там кто разжёг, и всё, и вот так вот мы и жили. А если у тебя есть какая-то лишняя спичка – давали, да.
– Зоя Михайловна, а еще вот какой вопрос, а как… может быть, было какое-то присутствие наших войск в вашей деревне или рядом, может быть, просто проходили наши войска, а может самолет пролетал, и это отразилось в памяти? Такого не было?
– Нет, я не слышала ничего.
– А, ну, наверное, укрепления у вас не строилось, потому что…
– Какое? Нет, нет, у нас ничего не строилось, нет, ничего не было, это не было. Беженцы были, попадались. Ходили, побирались. Я вот помню, я же… Мама было войдет, она скажет – дочка, закрывай все двери, никого не пускай. Мало какой человек. Я было закроюсь на замок.
– А случаи воровства были?
– Были. Воровство было, да, воровство, было. Вот у нас, например, вот мы, наши семьи… Можешь питаться, но если у тебя нечем питаться, то овцу уведут. И волки ходили, и волки прогрызали в сарае, а сарай был из плетня, но они его прогрызали, и было овец, вытаскивали и вытаскивали. Волки, волки. А хозяин там тем более, если придет, то нет. Если у меня есть овца, знает там. Было, да, было небольшое. Не скажу, что прям вот сильно прям, но было.
– А как-то милиция-то пресекала? Обращались в милицию?
– Ой, не знаю, я даже не в курсе. Да я что-то в милиции-то не… Как вот, что я побольше, я что-то милиции-то ее и не видала. Не знаю.
– А как относиться к властям колхоза? Может быть, были случаи, когда они воровали? Председатель, может быть, мог провороваться, еще кто-то. Такого не было?
– Нет, мне кажется, не было. А там…
– А там кто знает.
– А там кто знает. Ну, что-то мне кажется, что нет, не было. Нет, ну, знаешь, например, где я вот там жила, мы относились, у нас как-то все было дружно, неплохо. Ну, конечно, голодали. Но переносили. Надо переносить, надо жить. Дальше надо спасаться. Все-таки картошечку посадят, морковку, все бывало. Возьмем огурцы. Все это мы, кадочки такие были, знаешь, засаливали. И капусту засаливали. Не было, конечно, ни банков, ничего, консервации никакой не было. Вот такие вот делали. Там у нас один, например, делал из дуба, кадью маленькую дубовую, ты знаешь, как хорошо! И мы помидоры мочили, огурцы мочили на зиму, капусту. И вот и всё, достанем картошечки с капустой. Мама скажет – а вы поменьше хлеб-то ешьте, побольше капусты, картошечки.
– Чтобы не пропало.
– Чтобы экономить, так сказать, хлеб. А то его нет, нам не хватит до следующего года. Вот так вот.
– А насколько самоотверженно трудились люди в вашей деревне?
– Труд был ужасный. Вот у меня, например, моя мама, она была очень сильная, такая, мужественная была. Ещё, конечно, у неё и отец был. Вот она косила и крюком. Косой косили – это траву. А вот рожь, пшеницу – это был крюк. На косу ещё одевался такой крюк, прям назывался. Ну, отец её делал. И вот она… Как же меня – говорит – дочка, я эту ночь устала. Я говорю – ты чё, мам? Какой крюк тяжёлый. И вот идет прокос делать. Сейчас прокос делают трактором. А ты вот попробуй сделай линии, прямо прокос. А за тобой будут люди идти ещё косить. Там на каком-то таком расстоянии. И вот – помаши! А он, ну, прямо крюк этот тяжёлый. А ещё тогда это проходят, а потом сзади люди делают копны. Это связывать и в копны складают. А потом молотить.
– А в основном труд был женский? Мужчины же забрали?
– Одни женщины почти что работали. Даже лошадей стало мало в колхозе. Всех побрали на это, на войну. Быки были, быков запрягали. Всё. Быков не хватало, даже у нас, у односельчан брали коров и запрягали их, а они не идут никак, бьют их. Её жалко, она же молоко даёт.
– Конечно.
– Поэтому всё боялись. Всё перенесли, Бог миловал. И народ шёл, народ всё равно шёл. Мы всё равно пахали и… Да, да.
– Зоя Михайловна, а как, может, Вы, наверное, помните уже 45-й год, Победу, потому что Вам уже было 6-7 лет.
– Да, было.
– Как Вас приняли в деревне известие Победы?
– Я помню, у нас еще тогда и радио не было, потом кто-то приходит, не то вот в сельское, что ли, председатель говорит: война кончилась, война кончилась, война кончилась!
У кого-то погибли, стоят, плачут, у кого-то пришли живые. Ну, не пришли, но живые. Пляшут! Всё равно играли, гармошка была какая-то такая старенькая. Какой-нибудь один играет, и пошло. Ну, как-то мне кажется, да, вот прямо даже веселее было как-то жизнь, прямо. Клуба не был, было много бочек, сядем, вот мы вот все бегаем, играем.
Ты с 30-го года, я с 38-го, он с 40-го. Всё вместе, всё, и пошло дело.
Спасибо вам большое, Зоя Михайлович, за такое интервью.
– Что я знаю, я больше ничего не знаю, как сказать тебе особо-то так. Потому что вот ещё у меня осталось дело сделать – съездить. А то, что у меня годы большие, сынок, и я сейчас живу одна тут. У меня две дочери, одна в Самаре, другая… Московская область. Я была у них. А сюда приехала у меня тут отопление всё разморозило, и всё! В прошлом году я еду, а нынешний год уж не поехала. А всё равно. Вот они теперь, взял у меня документы. Узнаю я точно, где они. Может, даже тут земли привезут, сюда, пускай с мамой вместе жить.
– Да, дай бог.
– Да, вот это я. У меня это. Вот что-то он взял, что-то мне уже… не полгода, а вот что – ну некогда, всё, работа, то да сё. А там вот порядочно ехать надо идти от этого. Есть вот там такая братская могила и всё. И мне прислали даже, как и проехать туда, всё, прям всё ехать. Ну, сразу ничего-то я не…
– Ничего, вы всё соберётесь, всё будет хорошо. У вас всё получится.
– Ну, теперь же у меня уже братьёв нету. Уже тоже. И мне уже хорошо. Годочки большие. 85 лет мне уже.
– Сейчас 86 уже стукнет.
– Да уже 86 стукнет в сентябре. Так что, пора!
– Спасибо Вам большое за такую интервью.
– Ну так, не так – что знала, то я могла сказать.
Архив АНО «Тамбовское библиотечное общество». Аудиозапись.
№ 17
Из воспоминаний Б.П. Андреева, 1938 года рождения, уроженца с. Раевки Красивского района.
2024 г.
– Мы продолжаем цикл записи интервью детей войны и сегодня мы поговорим с человеком, который застал это время в нашей области. Представьтесь, пожалуйста.
– Андреев Борис Павлович.
– Борис Павлович, а какого вы года рождения?
– 1938. В декабре.
– А где вы родились?
– 9 декабря. Красивский район, Красивка тогда была. Сатинский сельсовет. Село Раевка. Сатинский сельсовет. Сатинский сельсовет, да.
– Расскажите, пожалуйста, а помните ли вы начало войны? 41-й год.
– Нет. С 38-го, декабрь, 2 года, два с половиной года всего, да. Сестра моя, на 2 года постарше меня. Она в 37-м в январе, а я в 38-м в декабре. Так тут, на 2 года.
– А какой у вас был состав семьи? Вот сестра, а еще кто-то был? Сколько братьев, сестер?
– Нет. Нет, только нас двое было у матери. Еще жила с нами ее мать, бабушка. И рядом с нами отцова мать, бабушка.
– А отец, его взяли на войну?
– Да ушел и все. Как там? Без вести или как? Не помню что-то.
– Без вести. Наверное, да. Каким было военное детство? Что вы кушали? Как вы трудились в колхозе?
– Как сказать? Я был маленький все равно. А потом с бабушкой ходил собирать колоски. После уборочной на поле колосочки. Там веточка, там валяется, подбираешь и в мешок. В мешок наберем, дома молотим – зерно. Вот так вот и жили. А лебеды бабушка… в колоде нарубит скрябкой зелёной лебеди и наварит… Корова была; вот, главное молоко спасало. Побелишь молочком, поешь – красота. Да.
– А ещё что-нибудь Вы собирали? Может быть Вы ходили в поля, на луга, может, ходили, может ещё какую-то траву собирали? Может, грибы, ягоды?
– Грибы-то он собирал.
– Собирал. Да и отравился ими. Пошел, грибы, то есть круговины, желтенькие. А есть опята, а есть какие-то вредные.
– Ложные опята?
– Да. Две этих набрал. Прихожу. Мать моя уж нажарила, тоже набрала, тоже таких. Со мной плохо было, и тошнит, и всё. И понос открылся. Ну, начал молоко пить. Сосед там: молоко, молоко пей, молоко! Ну разочка два было – и всё, остепенилось. Вырвало еще прямо шматками – и остепенилось, как ни в чем не бывало.
– Расскажите, пожалуйста, а как вообще война сказалась на положении вашей семьи? Вот, может быть, у вас было больше скотины до войны? Часть вы порезали? Или, может быть, налоги были большие во время войны? Вы должны были сдавать мясо, молоко?
– Были налоги, но я ничего не помню. Ходили с ведрами, маслом собирали. Что еще? Ничего больше. Ну больше масло, яйца. Яйца и масло, ага. Идет. Там женщины ходили сдавать. Сколько там штук наберешь. Курочки, свои были курочки.
– А кто вас еще из близких погиб на фронте?
– Дядя один пришел, в плену был. И другой пришел. Дядя Ванюшка. Раненый был. Раненый пришел. До 84-х он дожил. Да может быть. Дядя Иван. Вот он было. Сколько их, Иван? Братьев сколько? Иван Иванович. Хлебнев Иван Иванович.
– Ну и твой отец, у Хлебневых-то?
– Да. Максим еще. Максим. Варюшки.
– Максим. Да. Моя мать и брат. Да, да, да.
– Расскажите, а как относились к вернувшимся из плена родственникам в деревню?
– Хорошо. Не сказать, что плохо, потому что знали, что они не по своей воле. Понимали народ. А все свои главные там у нас. В компаниях Андреевых. Все село. Молотобой Андреев.
– Расскажите, а кем они были после войны? Может быть их третировали в продвижении в карьерной области?
Нет, он кладовщиком работал, бригадиром работал. Нет, не придирались.
– Расскажите, а как часто, может быть, вам мама рассказывала, как часто были вести с фронта от них, вот, пока был жив отец?
– Нет, никакого. Их, наверное, сразу, как пошли, их сразу, наверное, убили. Нам никакой вести не давали.
– Ну, вроде как без вести.
– Ну, без вести пропавшие. Вот и дело. Но он, может быть, письмо кто присылал.
– Нет.
– То есть командиров никто не присылал?
– Нет, нет.
– А расскажите, а когда вы пошли в школу, какие были условия там? Выдавали ли вам учебники, тетради?
– Давали, наверное, я что-то плохо помню.
– Тетрадь давали и книжки давали. Он учился хорошо, только он не хотел. Учили нас. А так-то он… Курить начал. Пойдешь в обмоток ляжет и курит, а в школу не идёшь.
– А учился… Подписал тетрадку. Подпиши. Учительница была. Такая добрая была, Татьяна Викторовна. Подпиши тетрадь – имя, отчество. Андреев Барис. Не Борис, а Барис. Как она смеялась – Баря, Баря, вот помню еще.
– А как у вас были отношения с одноклассниками, с в целом ребятами деревенскими? Как вы играли? Может быть вы можете назвать какие-то игры, которые были еще во время войны?
– Играли-то, почему.
– Он с девками играл, он с ребятами не играл. Он к нам, к нам к девкам ходил.
– Видел чижик, какой чижик? Вот такая вот, вот три колечки и палки. Тук, он прыгнул. Вот так вот.
– Он с девками играл, с нами. Он нас одолеет, а мы закрыть дверь. А у нас у двери такая щелка. Я взяла вот грабли. Знаете грабли? Вот. А от колодок слетела эта. Я думал, у него пузо, а этот глаз. Ширь ему в глаз. Я его глаз чуть не выколола.
– Да, он, да, болел глаз.
– Возили в больницу. Капли давал врач мне. Ничего.
– Ничего, а сейчас слепой.
– Расскажите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, а какие настроения были в тылу в советские годы? Какие были настроения у детей во время войны? А ведь окончание 1945 года вы застали уже будучи шести-семилетним мальчиком. Может быть, вы помните, что дети думали о войне тогда? Думали ли вообще?
– Ничего не могу сказать сейчас. Ничего не могу.
– А помните ли вы, как праздновали уже окончание войны?
– Рады?
– Рады были?
– Ну а как же! А как же, вот этот дядя, он во сколько, я сейчас не знаю в каком году прибыл. Из плена-то. Жили прямо рядом.
– После окончания войны, из плена, наверное, их освободили. Они поехали по домам.
– А как относились у вас родственники к властям в колхозе, к Сталину? Может быть, ругали их за какие-то тяготы войны?
– Нет.
– Такого не было?
– Нет, вроде бы. Зачем их ругать? Сталин победу держал. Разруху всю поднял.
– Хорошо относились?
– Да.
– А как относились к немцам? Мы их просто не видали. Может быть плохо бы относились, но мы их не видали. Про Гитлера вроде рассказывают, как он там шел на нас. Хотел завоевать вроде весь мир. Вот такое слыхалось, что говорили. Весь мир.
– Расскажите, а делили ли вы как-нибудь фашистов? Вот, скажем, есть немцы, есть итальянцы, есть там венгры какие-нибудь?
– Нет, мы не знали ничего этого. Немцы и немцы, а там какие-то итальянцы, кто их знал.
– А может быть через Раевку проходили наши войска когда-нибудь? Вы будучи ребёнком не видели наших солдат?
Нет. Это там кто проходили, проезжали – то банда, то красные. Вот это было. Это мы не помним. Мы не рождёные были. Мы не помним. Рассказывали. Ездят бандиты. А потом красные убегают, красные настигают. Одни убегают, а одни догоняют.
– А так антоновцев обычно называли у вас бандиты? Как вообще относились у вас к антоновцам? Вот вы сказали – бандиты. Так их и называли – бандиты?
– Наверное, бандиты называли. Мы это не захватили.
– Нет, а Вы рассказывали, как вспоминали ваши родители, как вспоминали старшие? Вы просто сейчас сказали – бандиты и красные.
– Да вот какая-то, если красные приехали, что ли-то. Какую-то бабу застрелил, помнишь?
– Да, да.
– Она что-то там начала гнуть, он, видишь, щелкнул, застрелил женщину. Ругала кого-то она, их ругала, или обзывала там как. Что это вот так. Ну, в общем, он её пристрелил и поехал.
– А в годы Великой Отечественной войны даже, не знаю, самолёт не пролетал? Такого не было?
– Самолёт мы, наверное, не помним.
– Да.
– Не, вряд ли.
– Потому что, наверное, дети всегда запомнили бы самолёт. То есть, даже в 6 лет вы бы запомнили самолётик, рассказывали.
– Нет, такого не было.
– Но тоже, да, Вы далеко от фронта всё-таки. А расскажите, пожалуйста, а может быть, можно что-то сказать о том, как разные односельчане по-разному переносили тяготы войны. Всем ли было голодно одинаково? Может кто-то получше, а кто-то похуже?
– Можно сказать, почти все. Кто там мог у нас? Плохо все жили. Траву ели. Лебеду ели. Жёлуди собирали. Панпышники, панпышники. Ну да, а жёлуди в лесу собирали.
– Я не любила этот желудковый хлеб.
– О, да он тяжёлый.
– И горький, наверное, да?
– И горький!
– Я не помню. Я лебединый любила, из лебеды.
– А всё равно. Печка, в такую вот. туда кинешь – он там щелк, этот желудок-то, вроде испекётся, и жуешь. Он горький, а всё равно жуёшь.
– А на рыбалку вы не ходили? Или вам далеко было?
– Как же. Рядом у нас пруд. Ходил. Ну как, маленький… нет. Большой был. Пруд прям вот он. Караси. Караси. Дочка уже была у меня маленькая, со мной ходила ловить карасиков. Резинку закинешь – клюет, дёргаешь. Там крючки. Тащишь.
– А в годы войны не ходили, когда маленькие были?
– Нет, что вы, тогда него и не было, нечем ловить, ничего.
– А были у вас, может быть, рассказывала мама, были в деревне голодные смерти во время войны?
С голодушки-то, никто у нас с голода не был?
– Да у нас вроде не слыхать было.
– Ну а какие-нибудь истощенные, те люди, которым, допустим, вообще не вышло было одеться, такие были?
– Ну семьи большие были. Ну вот Лифанова, скажем, да? И Ванька – у них большие семьи. Голодновали жили.
– А Лифановы – у них калека был в семье, да?
– Нет. У Лифановых у них померла мать, а их много.
– А, да, у них отец, с отцом жили. И он управлялся с ними.
– А беженцев не было ли в деревне? Может быть, откуда-нибудь из западных областей СССР были беженцы?
– Беженцы были. Были беженцы, они потом уехали, кончилась война. У нас, что ли, они были, или в другом селе.
Не, я не помню этого.
– Чуть я вот помню, сейчас забыла, так были.
– А откуда, не помните?
– Нет.
– А как они жили, не знаете, да? То есть им предоставили какой-нибудь дом или они на квартире жили?
– Они жили вот, например, с нами, у другой семьи. Они так жили. Мне кажется, у нас были. Сейчас я вот, может, вспомню. Я вот помню, когда я уехал на родину. Да много дел было.
– А не помните, как к ним относились? Относились мы хорошо.
– Хорошо, хорошо. То есть ничего дурного не было?
Нет, нет, нет. Такого у нас не было, чтобы к кому-то плохо относились.
– А сами они хорошо относились к работе в колхозе?
– Да, да, да.
– Трудолюбивые были?
– Да.
– Хорошо. А расскажите, а может быть, во время войны были какие-то проблемы, я не знаю, из-за тяжелых налогов? Может быть, кто-то не хотел их платить, пытался уклониться от них? Такого не было?
– Такого не было. Такого не было. Ходили – яйца, сколько там нас обложат, мы их отдавали. Масло – там сколько обложат, наберем, отдавали. И все, по-моему, не было такого, чтоб кто-то не хотел отдавать.
– Масло покупай и отдавай. Да, да. И всё! Купи и отдай.
– Купи и отдай – ну, обменять у односельчан на что-то, наверное?
– Ну, на чего обменять? Ни у кого ничего не было. Ну, покупали за деньги, сколько стоит и отдавали.
– Расскажите, пожалуйста, а может быть, было еще что-то интересное во время войны, о чем не сказали, а то, что нужно передать сейчас потомкам? Может быть, можете сказать об отношении более старших ваших товарищей? Может быть, они рвались, может быть, ребята рвались на фронт? Бывает такое, что совсем еще ребят, ребят, может, на 12 лет, естественно, его не заберут, но он хочет, он рвется, он подает даже заявление.
– Нет, нет, таких не было. Мы маленькие были. Этого не слыхать. А когда подросли, война окончилась. А какие были большие – их сразу забрали.
– А не было ли у тех, кто не забрали больших совсем, не тех, кому 18 лет, а тех, кому 14 лет, 15 лет, 16 лет, не было такого, чтобы их забирали в город трудиться?
– Нет, нет, нет. У нас тут не было, по нашему месту. Там, может, где в городе, а у нас тут нет.
– А не отправляли ли ребят на, скажем… вот в местах, где рядом торф, часто отправляли подростков на торфоразработки?
– Это баба у нас работали.
– Отправляли?
– Да, были, работали. Эти работали. Бабы. Они из нашего села были.
А мужиков-то их не было.
– А мужиков да, их не было. А как их отправляли? Они просто должны были прийти и отработать? Или за что-то платили? Труда не засчитывали?
– Вот я не знаю, что платили. У нас одна матерная тетка там работала. А уж я не помню, что платили. Торфом, что ли, отдавали. В Хорошавке они работали. У нас многие там работали из нашего сел, на торфе на этом.
– А скажите, а делались ли какие-то различия между национальностями? Понятно, что тут никого не было, но беженцы были, может быть, они были нерусскими. Не было к ним никакого дурного отношения, не смеялись ли, скажем, что он еврей? Или может быть, учитель мог быть каким-то нерусским, евреем еще кем-нибудь? Не было такого, нет?
– У нас, я уж вот училась, в пятых, в шестых классах была у нас Эзида Николаевна, председатель колхоза Чернавского, он её откуда-то привёз. Она нерусская, но она хорошая-хорошая женщина, я у неё на пятёрки училась. Она прям вот всё расскажет, и я всё знаю по её и рассказываю.
– А расскажите, пожалуйста, еще вот, как было в это время, во время войны, может быть, мама рассказывала, со скотиной в колхозе? Может быть, старались, наоборот, число скота увеличить, или скот резали для помощи фронту, вот это вот она не говорила?
– Нет, что это, не помню.
– Нет, коровы у нас были и свиньи у нас в нашем колхозе были. Водили, их вот отвязывали, и к колоде водили поить. Сейчас всё – пей, сколько хочешь. А тогда отвязывали каждый корову, и водили к колоде. На бочке возили воду.
– Вот еще их мало было.
– Ну, мало, конечно. А много где ж тут? Ну, я вот помню, это… Я помню, тогда сестра… Я ходила когда? На работу уж молодым. Только стали ходить. Я никогда ничего не унесу. А Тамарка пошла, я не пошла, Тамарка, моя сестра, пошла. И они-то оттуда насыпали по карману проса. Бабы. Вот. А тогда никто в доярки не идёт. Они за этот карман – их в доярки. Всё, судить не будем, пойдёте в доярки. И вот так их заставили доить коров.
– А скажите, пожалуйста, может быть во время войны были какие-то случаи, ну не то что неповиновения власти, нет, а может быть были какие-то случаи попыток уклонения людей от того, чтобы работать за трудодни в колхозе, может быть какие-то были иные случаи лени у людей или люди в принципе трудили все и понимали, что нужно трудиться всем? Как скажете?
– Да уж вот в таком хорошем смысле уж были мужики, не шли на работу. Они не ходили на работу и померли. Не ходили на работу, не работали, померли. А дед мой, вот Господь дал ему жизнь. Трудяга, это трудяга.
– А во время войны, как, может быть, мама рассказывала ваша, как люди трудились? Старались всё равно отработать трудодни. Ведь трудодней стало больше в колхозах в целом?
– Да бог его знает, я сейчас ничего уже не помню…
– А что там, тогда давали по сколько? По килограмму, по два в колхозе зерна на трудодень.
– Спасибо вам большое за интервью.
Архив АНО «Тамбовское библиотечное общество». Аудиозапись.
№ 18
Из воспоминаний В.В. Саяпина, 1939 года рождения, уроженца с. Перкино Сосновского района.
2024 г.
– Здравствуйте, мы продолжаем наш проект, посвященный детям войны. И сейчас мы берем интервью у героя труда, уроженца села Перкино, Саяпина Виктора Васильевича. Здравствуйте!
– Здравствуйте.
– Напомните, пожалуйста, вы родились какого числа, какого года?
– 22 марта 1939 года.
– Вы уроженец Перкино?
– Здесь, да. Вот. Как говорится, это родовое гнездо. Тут я родился, крестился, как говорится, и в армию уходил. В ФЗО уезжал на Урал. Вот. С этого дома. Вот. Так что…
– Виктор Васильевич, скажите, пожалуйста, расскажите что-нибудь о своих родителях.
– О своих родителях? Ну, вот фотографии. Вот мои все. Папа 1905 года рождения. Мама 1903 года рождения. Поженились они рано. Отцу еще не было 18 лет, а маме было 19 лет. Так что в 1923 году они женились. В 1924 году родилась первая дочь. Потом родился сын в 1927 году. Дожил до 7 лет, и в 7 лет он утонул в речке при купании. Уже плавал, ну, такой несчастный случай. Упал с моста, и сердечко не выдержало, и вот, утонул. Вот. В общем, Бог наградил меня хорошей памятью. Я хорошо помню себя и некоторые мероприятия, когда мне было два года. Пошел третий год. Поэтому я помню, как провожали отца в армию, как он меня обнимал, плакал. Вот. Был одет костюм на нем рабочий. Он работал дорожным мастером здесь, в Сосновском районе. Ну, начальник дорожной службы. И, значит, это мы, провожали моего отца. Он как доброволец пошёл. И с ним пошёл ещё его товарищ, дядя Никита Коновалов. Инвалид войны… Ой, инвалид детства. У него нога была короче, на 5 сантиметров. Его не брали на фронт. Но он добровольцем ушел. Был член партии. Отец мой тоже член партии. Работал на таких работах, как говорится, руководящих. Был хорошим организатором. В колхоз, когда вступали, вот он был в агитбригаде. Агитировал всех вступлением в колхоз. Родителей он уговорил первыми, чтобы они вступили в колхоз. Сдали лошадей. Были лошади у нас. Корову оставили, потому что уже было в то время трое детей у них. Мать престарелая уже, отец его тоже престарелый, поэтому коровку оставили. Ну, еще там и живность, птицы разные всегда были. Ну, значит, вот провожали здесь вот два соседа, дядя Максим, дядя Ваня, мой отец, дядь Никита, дядь Ваня. Я помню, как они вместе пошли из дома. Вот вышел отец, плакал, меня с рук не спускал. И маме всё приказывал, чтобы она меня берегла. Потом… Мама пошла, ходили они вот все женщины провожать на станции Рада за Тамбовом. На станции Рада они были, проводили. Ну и потом мама рассказывала, что моего отца сразу командир военный назначил своим помощником. Говорит – ну, Василий Матвеевич, я вижу, вы многих тут знаете. Он действительно, из села провожали много. В Сосновке он там вращался с мужчинами. Их тоже знал. И он говорит – раз ты тут такой известный человек, будешь у меня помощником. Вот так он ушел на фронт. И, в общем, в 42 году он уходил. Первое января у него день рождения. А в 42-м осенью их провожали. Вот это я помню от погоды. Было солнце, вот такой солнечный день. Ну и вестей – ни одной весточки, ни одного письма мы не получили. И только в 44-м году принесли извещение, что он пропал без вести. Вот это. Ну, первые дни войны мне запомнились ещё. Это была осень, конец августа. Убрали с огорода просо и занимались обмолотом проса. Обмолотили. У нас дом был с крыльцом. Вот. И я уговорил маму спать на крыльце, на открытом воздухе. Вот. Это был 43-й год. Ну и мы… Она говорит – ну, таскай солому на крыльцо. Я натаскал солому просяную на крыльцо, она застелила. Вот. И мы легли спать. Где-то после 11 часов мы услышали гул самолета. Вот. Такой надрывистый гул: уууу, уууу. А мама говорит, что тяжело летит. И он начал сбрасывать бомбы. Одну бомбу сбросил, значит, в поле. Второе, в Святое озеро у нас там, в Святое озеро сбросил.
– Оно так и называется?
– Так и называется, Святое озеро. По легенде, там раньше церковь была, и вроде получился торфяное болото, вот, и провал получился. Озеро до сих пор глубокое, широкое, большое, рыбное. Вот. Ну и, значит, летит он в сторону Семикинского лесоучастка. И потом мы услышали грохот, взрыв и огонь. Самолет разбился. Бомбу, которую он сбросил, вот, вот, где у нас сейчас заправка там, за заправкой, за госдорогой, ребят пошли и хотели достать вот этого… термит. Начали бить кувалдой. Ну, в общем, добились до такой степени, она зашипела всем, там отбежали, кто мог, а этот, который был с кувалдой и бил, он стоял на бомбе. В общем, его разорвало, всё, не нашли ничего от него. И яма очень глубокая была. Долго запахивалась, как говорится…
– Воронка.
– Вот. Ну вот. Это значит… Потом мне запомнилось, как во время войны, сорок уже… Конец 42-го, начало 43-го года, стали возвращаться инвалиды войны. Первый пришел у нас с Кочетовки дядя Семен Еремин, без ноги. У него до колена, ниже колена, стопу в общем на миня оторвало. Мы с мамой пошли. Мама у него спрашивает, может, встречался с отцом с моим где? Они в разное время призывались. Он говорит, да нет, не пришлось. Потом пришел, которого провожали вместе с моим отцом, Новокрещенов дядя Саня. Но он пришёл контуженный. Голова у него там вся была разбита. Контуженный, и он с памятью у него очень плохо. Ну и только твердил, что – Анна Семёновна, Василий Матвеевич был хорошим командиром у нас. Мы все выполняли его указания, слушались его. И он для нас всё старался, всё, и обед вовремя, как говорится. Мама спрашивает, где вы всё-таки, докуда вы доехали-то? А он говорит – я ничего не помню. Тем более, говорит, я не знаю ни одного города и нас самих: мы из вагонов везли, вот такие вагоны, телячьи, как говорится. Не выпускали нас. И я, говорит, не знаю где, чего. Помню, значит, эшелон начали бомбить. И вот он, контуженный, вернулся. Ничего, так и не сказал, где, чего и как. И вот до сих пор, 80 лет будет, и мы так и не знаем, где отец погиб, пропал без вести, как он, чего, значит, может в плену, может еще где, вот. Ну, в общем, война не только меня, но и многих заставила работать, как говорится, с детства. Нас у мамы осталось четверо. Сестра, как я говорил, первая, родилась в 1924 году. Её в 1943 – ей 18 лет сравнялось – и ее тоже призвали на трудовой фронт. Она была в Москве, в Шатуре, на трудовом фронте. В 43-м… Это ей… В 42-м в июне месяце ей сравнялось 18 лет. А в 43-м, или даже… не, в 43-м весной, приехали агенты, как их называли. Ну и вот один в пальто был, и у него крючок вот такой, застегаться. Мы сидели как раз, завтракали. Ну и вон, мама заплакала, Татьяна тоже, вот. Мы за следом, вот. Ну, ничего, успокойся, успокойся, всё. И крючком… У Татьяны были волосы длинные, косы заплетённые. И он её крючком зацепил за волосы и говорит – ну, пойдём, пойдём, Таня. В общем, вывел, и они ушли. Вот. Вернулась она в конце сорок четвёртого года. Сорок… Да. В начале 45-го, в феврале месяце вернулась. Но она ростом была маленькая, худенькая. Ну, в общем, сказала, что очень плохо питались, лебеду ели, траву, крапиву, в общем-то. Ну, что мне запомнилось? Что, вот…
– Виктор Васильевич, извините, что перебиваю, а изменилось ли положение вашей семьи после войны, 1947-1948 год? Оно было очень тяжёлое, вы сказали вначале.
– Ну, я хочу сказать, у нас… Мы все труженики, мать… В общем, во время войны у нас всё было. Корова была, овцы, поросята, куры, гуси, утки. Мы вот когда для фронта собирали, там, мясопоставку, вот, яйца собирали. Мама всегда, значит, сама с удовольствием, как говорится, всё выкладывала, вот, и давала для фронта. Вот. А я всё твердил: Шура ещё у меня, сестра, с 36-го года, мы – ой, мама, папе получше там, вот, и ему скажут, что от нас. Мы радовались так. Вот. Ещё у нас вот Перкино очень славилось – это во время войны у нас была ветряная мельница. Построена ещё до революции. И потом она перешла как говорится, в наше, в СССР, в общее пользование. И вот там в Тамбове, мельница была, там электричества не хватало, чего, значит, и из Тамбовской области все везли к нам на мельницу. У нас была и рушилка, и ветряная мельница. Вот мололи, и за помол брали мукой. И потом приезжала машина, и всё, для фронта отправляли вот эту муку, с Перкино. Очень… каждый квартал за три месяца приезжали и забирали муку, зерно, крупу, пшено, овсянку, вот. Гречки у нас было много в колхозе и у колхозников. Поэтому, значит, они всё сдавали для фронта. Деньги для фронта. Собирали тут мы тоже, это я помню. Хотя и вроде с деньгами было трудно. В общем, как я сказал, у нас 46-47 год – голод. Мы, можно сказать, его не почувствовали особо. Огород у нас хороший, земля хорошая. Тем более – скот был, органики много было, вывозили. У нас картошка, урожай был хороший, проса, конопля, лён всё у нас родился. Свекла сладкая, не кормовая, и кормовую сажали для скота, ну и себе вот сладкую свеклу, сахарную. Мясо всегда у нас было. Гусей, уток мы сдавали в мясопоставку. Молоко у нас собирали. Масло сдавали, маслом или молоком. Мама всегда собирала масло и сдавала вместо молока. Молоком мы сами питались. Так что в этом отношении. Работать мне пришлось начать рано. Где-то в 5 лет я уже гусей своих на лугу тут, на низу, около речки. В 11 лет уже пошёл в колхоз работать. Это 50-й год. Так что… Ещё что было с огородами. У нас очень много родственников по линии матери, по линии отца. И вот огород тогда был сорок пять соток у каждого колхозника. Вот. И мы организовали, вот, мои родственники – дядя, вот моя мама, взяли из колхоза плуг и уже пахали огород на себе, как говорится, делали упряжкой, и человек, значит, шесть и один сзади. Это мне приходилось за плугом бегать уже. Вот. Затаскивать плужок. Где-то лет восемь мне было, я уже руководил там всё. Вот. Пахали вот мы по очереди. Один огород, второй огород, третий. Много родственников. Ну и так вот хорошо мы дружно жили между собой все. Друг другу помогали.
– Виктор Васильевич, что касается, вот ещё интересует настроение в тылу: когда началась война, в период войны, какое было настроение у людей, которые Вас окружали, и был ли патриотический дух, настрой на победу у людей?
– Понимаешь, вот как я вот сейчас помню, ну, во-первых, прям октябрьскую. У нас колхоз, председатель колхоза была женщина, и она организовывала всегда, отмечали день, вот, октябрьской. И мы все дети и родители собирались все, как говорится, кому-то там бригадир назначал, ага, вот. Женщины – Котова, тетя Нюра, она всегда у них собиралась. Дом большой. И поэтому у них собирались мы. И настроение, конечно, было у всех – ждали все своих, как говорится, мужей, отцов, как говорится, дети отцов. Ждали всегда, когда вернутся. Вот чем обидно было то, что ни одного письма не пришло. Вот с кем мой отец ушёл. Никто… Вот мы с мамой ходили, и она всегда спрашивала – ну, не прислали, ничего, значит, нет? Вот. Ну, вот поэтому настроение было вот такое подавленное. А так, значит, сами… Уже к концу войны в колхозах, когда работали на свекле, на бахчах, у нас раньше дыни выращивали, арбузы, помидоры, всё, огурцы. Мы огурцы возили в Тамбов, наш колхоз торговал, чтобы деньги иметь, что-то приобрести, как говорится, для колхоза. Настрой, конечно, у людей был хороший, нормальный. Почему? Потому что я сказал, когда работал с женщин, песню начали петь. Как-то, значит, шутить начали. Потом мне запомнился день, когда с войны пришёл мой зять, старшей сестры Татьяны муж, он инвалид войны, без ноги пришёл. Награждён был Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны. Медаль, как я сейчас помню, «За отвагу» у него была. Наград, как говорится, немного, он попал служить в разведку. Вот когда ему 18 лет сравнялось, он добровольцем ушёл, и ему еще 18 лет не было. И он на мину попал, и значит, ему стопу оторвало. А потом он ночь в грязи пролежал, потому что разведка, нельзя было его, значит, и он остался, как говорится, там. И потом его санитары нашли… ну, у него нога, в общем, гангрена получила. И ампутировали ему выше колена ногу. Вот он пришел как раз под день объявления мира когда. Мы в моем месте сажали картошки. Ну и услышали голоса. У него матери не было. Матерь умерла рано. Отец и сестра его сажали картошку. Ну и там рядом тетка его. Заголосили, как говорится. А моя сестра Татьяна училась вместе с ним в одном классе в школе. Ну и она увидела, как говорится, Володя пришёл от войны. Он на костылях, ну, видно, через огороды, а тут недалеко, вот, на той улице они жили, а мы тут. Вот. Ну и значит, она побежала. Пришла, пока рассказывает, что нет у него ноги. Ну, а потом, когда они стали дружить, встречаться, ходил он к нам. Он играл на балалайке, на гитаре. Вот, значит, и это мне запомнилось. В 55 году я решил уехать, получить, как говорится, специальность. Я уехал на Урал, Пермская область. Закончил там строительную школу. Специальность получил маляра-штукатура. Работал там. Перед армией решил приехать, чтобы в армию меня провожали отсюда. Мать, я приехал! И в 1958 году пошёл в армию.
– Виктор Васильевич, а после войны, вот уже в мае 1945, у вас первые годы после войны, как всё складывалось в плане учёбы в школе?
– Ну, в школу я пошёл с 7 лет. Мама у меня грамотная, закончила два с половиной класса. В третьем классе, как говорится, у родителей работы много стало. Она говорит – мам, ну что я, говорит, я сама писать умею, считать умею. Я буду вам помогать. Ну, мать безграмотная. Говорит, ну давай, Анюта, будь дома. Вот. И мама, значит, два с половиной класса образования. Она читала хорошо. Вот. Была набожной. Вот. В церковь постоянно ходила. Вот. Когда церковь у нас была. Вот. И, значит, я сам. Меня научила читать рано. В общем, сестра в школу пошла, и я вместе с ней уже букварь читал. Вот она с 36-го, я на 3 года моложе. Она пошла, ей почти 8 лет было. А мне… я на 3 года моложе. Вот я в школу пошел, уже читал, как говорится, букварь, сказки все, сказку о рыбаке и рыбке, значит, уже прочитал. Так что для нас, для семьи, как говорили, вот после войны мы все, сестры учились, Шура, вот, закончил Кирсановский техникум, ветеринарный. Нюра, конечно, работала, рана пошла. Ей 15 лет было, она на торфоболоте трудилась. А потом в колхозе, на махорке. Татьяна замуж вышла в 46-м году за Володю. И у них родился сын. Потом четверо детей у них было. Два сына, две дочери. Сейчас у меня сестра Анна с 31-го года в зеленом платье. Это Татьяна, это Александра, это я. Ей 92 года. В общем, можно сказать, у нас долгожители все. Мои предки.
– Вы поддерживаете контакты?
– Конечно. Со всеми. У меня много родственников, и я со всеми поддерживаю. Двоюродные, троюродные, значит, по линии отца, по линии матери. Встречаемся всегда на праздники.
– Виктор Васильевич, это было очень ценное интервью. Я думаю, те, кто его посмотрят, узнают очень много нового о детях войны, о состоянии на тот период. Спасибо вам большое.
Архив АНО «Тамбовское библиотечное общество». Аудиозапись.
№ 19
Из воспоминаний А.И. Хлопотенковой, 1939 года рождения, уроженки с. Раевка Красивского района.
2024 г.
– Мы продолжаем цикл записи интервью детей войны. И сегодня мы поговорим еще с одним человеком, свидетелем тяжких и жестоких дней того времени. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
– Хлопотенкова Антонина Ивановна.
– А год и месяц рождения?
– 8 мая 1939.
– И родились вы в этой местности?
– В этой местности, да.
– А деревня называлась?
– Деревня Раевка. Дмитриевка она по описанию была, а так, как сказать… Ну, звали все Раевка, по-простому. А записано село Дмитриевка, Красивский район Тамбовской области.
– Это недалеко отсюда?
– Да нет, Раевки нет уже деревни.
– А располагалась она недалеко?
– Нет, вот километров семь.
– А большая ли была деревня?
– Очень большая.
– Сколько примерно дворов?
– Ну, примерно… Ну, дворов сто пятьдесят было. Но многолюдная была, потому что в каждой семье было пять, семь, шесть детей, четыре. Очень многолюдная была. Так и говорили, говорят, в Раевке семьдесят две девки. Я, может, лишним наговорил?
– Нет, наоборот, мы сейчас рассказываем о быте, о всём, что было. А как в деревне воспринято было начало войны? Может быть, вам рассказывали об этом родители?
– Вот в начале войны-то мы жили в Челябинской области. На переселение уезжали туда. Ну а война началась, отец трактористом был, и его прям с трактором с первого дня погрузили. Увезли, больше мы его не видели. И в 44-м году он погиб. И потом мать осталась, нас четверо, еще бабушка, это отцова мать. И вот она оттуда… Ну, неплохая там жизнь была, дом там давали нам. Всё, работала она в детсаде поварихой. Может, не нужно?
– А как Вы жили? Насколько помогало Вам, допустим, государство? Может быть, за отца давали?
– Ну там как, то, что совхоз или колхоз, что там было такое. Ну и председатель был, давал помощь, оказывал. Ну а потом оттуда мать решила уехать на родину, сюда. Ну и вот оттуда добиралась, кое-как она, война же. Ну и приехала. И что думать, приехали мы? У нас ни угла, ничего нету. На квартире это зимовали. Голод, холод. И так всё это, хоть я и такая маленькая была, но всё это мне запомнилось очень, как плохо было всё.
– А односельчане не помогали в это время?
– Да чего там, все так жили тогда. Ну, первое время, может, там у кого чего было, но уж мы-то пока приехали, потому что… Ну, друг дружку поддерживали. Ну, и вот, а мать одна работала, а работала, тогда ничего не платили. Трудодни писали, всё! Ну, тяжело было очень. Я как вспомню, это голод и холод. Сейчас вот сын, когда приедет, вот примерно продукты там, запас… Ну, с тех пор я запас делаю. Вот он: на кой это тебе нужно? Говорю, я знаю, мне – кому нужно. Я прошла через это. Ни обуть, ни одеть, ну ничего совершенно. Ни поесть, ничего. Даже сейчас вспоминать это тяжело.
– А работали в это время дети?
– Нет, все еще были.
– Вы старше были?
– Нет, я не старше. Старше была с 32-го года.
– А она в колхозе не работала?
– Ну уж пошла помогать. Куда деваться? Там, полола что-нибудь. Помогала уж.
– А как она работала? То есть к ней были такие же требования, как к взрослым?
– Да, да. Ну, потом брат с 35-го, потом уже брат пошел. На быках, ну, в полях, короче, работал. Они еще были вота! Куда деваться?
– А вы не помните, им давали трудодни?
– Писали, да.
– То есть, получается, он с 1935 года, но все равно уже пишут.
– Ну да.
– А может быть даже в военное время удавалось как-то поиграть? Собиралась ли у вас молодежь в деревне на игры или нет?
– Да ну, это все равно собирались, люди живые! Да и не хуже… все равно и свадьбы были, и похороны там, все это вроде отмечалось. В какой там мере лучше, хуже? Отмечались всё равно.
– А как председатели колхоза, ну в целом, власти относились к поискам людям еды? Ведь не хватало еды, было голодно. А были ли случаи, когда могли взять, скажем, потом с полей колосья?
– За это очень строго было. Одна соседка 700 грамм колосков набрала. Не зерно, а колосков! Пять лет дали отсидела от звонка до звонка. Строго очень.
В военное время?
– Да.
– То есть у вас относились строго?
– Да.
– Потому что где-то относились, бывало, сквозь пальцы, а у вас строго относились?
– Да, да.
– А это она сделала до уборки урожая или после? Не знаете? Просто мы обычно после уборки урожая…
– После мы ходили, собирали колоски и всё равно нас гоняли. Всё равно гоняли. Объездчик был с кнутом. Страшное дело.
– Ну конечно. Конечно страшно. Это просто тоже интересно. Где-то в каких-то местах можно было фактически спокойно собирать, а где-то объездчики строго относились.
– Ну нигде. По полям везде гоняли. Уж уборка, пройдете вроде, все, скосят. И все равно гоняли. Почему – не знаю даже.
– А скажите, а может быть в деревне как-то воспринималось, воспринимались объездчики, власть колхоза негативно за это? Или люди думали, что раз война, так надо? Ругали, может быть, объездчиков?
– Ругать-то, конечно, ругали. Ну, наш деревенский был объездчик. Ну, вот верхом ездил по полям с кнутом.
– А его никто не пытался побить?
– Ну, кто? Ребятишек по полям таскались. Где горох – охота сорвать горошку. Ну, он за нами.
– Скажите, а как часто приходили похоронки с фронта? Было ли это заметным явлением? Приходит в почтальон, даёт похоронку. Как похороны справлялись?
– Похороны никакие не справлялись. Придёт похоронка, а он там остался. У нас вот отец, он в Орле погиб. Похоронен. Вот… племянник. Ну его внук, конечно. Нашёл его. Ездил в Воронеж.
– Можете ли сказать, как менялось положение вашей семьи? Может быть, был какой-то год особенно тяжелым во время войны? Может быть, послевоенное время даже было тяжелее?
– Нет, не было легких лет у нас, потому что одна мать. У кого пришли после войны мужья, им, конечно, легче. Они пошли работать, помощь большая, а у нас тяжелые годы все были.
– А были ли в деревне случаи, ну, может быть, дезертирства, может быть, воровства, когда обворовывали – не пытались взять колхозного имущества, а у своих же?
– Были, были.
– А как к ним относились? Помогала ли милиция их выявить?
– Да, находили их, ну, некоторых даже сажали в тюрьму.
– Но это были…
– Свои же сельские.
– То есть никакие не залётные сельские?
– Нет, нет, свои.
– А может быть как-то их стало больше после войны? Может быть родители вам об этом говорили? Больше их было во время войны, чем раньше или нет?
– Что-то я даже не знаю…
– Просто война же… вообще тяжелая ситуация, открывает в людях в ком-то самое хорошее, а в ком-то дурное.
– Ну да.
– А когда вы пошли в школу, какие у вас были условия? Может, учебники, с тетрадями как было?
– Сейчас расскажу, как я в школу пошла. Вот подошло время в школу. Ну, ни одеть, ни обуть! Ну, какой-то… А у нас дед с бабкой жили в Москве. Ну вот бабушка прислала какой-то беленький платьишко, вот такой вот, без рук. Вот это, в школу, чтоб мне пойти. Как нарочно – сентябрь прохладный. Одеть совершенно нечего: ни кофты никакой, ничего нет. Ну что ж, мать свой костюмчик на меня одела, рукава засучила, такой тоже. Ни новый никакой, а в каком работает. И веревочкой подпоясала. И я пошла в школу, в первый класс. Вот так вот было.
– И вы одна так были?
– Да были такие, но только у отцы были – чуток получше. Уж не совсем как сейчас, но всё-таки. Они чё это, обуты-одеты. А я вот так пошла в школу. Я вот внуки вот когда соберутся, ну ещё небольшие были, вот про школу. Они-то ведь сейчас вынь и выложь то и сё, всякой одежды, всё, а тогда чё ж, ничего. Я говорю, вот я вам сейчас расскажу, как я в школу пошла. Бабань, этого не может быть! Я говорю, ну конечно не может. Я чё ж вам, врать что ж буду? Было такое время. И в рот положить было нечего. Если жмых где-то кусочек увидишь, сейчас шоколад этого не стоит. И вот внук вспомнил, что я говорила про этот жмых. Приходим с ним на склад сюда, в совхозе, и жмых завезли скотине. А я и говорю – вот, Владик, наш шоколад-то какой. Он думал, правда, наш шоколад. Прям в карман кладть, а потом кушает – бабань, это не шоколад! Ну вот такой вот был шоколад у нас. И то, это вот у меня подружка была, у ней мать была в этом колхозе счетоводом. Ну уж власть есть власть, это везде, тут говорить нечем. И у ней этот жмышок был, вот она бывало, в карман положит, чтоб мать не видала, и даст мне кусочек, я его сосу, сосу. Как это… Очень тяжелое было время. Сейчас, вот 90-е годы, все говорят, голод, голод. Я говорю, это не голод. Хлеб был? Был. Картошка, вот в деревнях картошка, пусть – всё было. Но это уже не голод. А вот голод, когда совершенно ничего в доме нет, вот это голод. Страшный.
– А какие настроения были у людей? Может быть, вы помните, мама рассказывала, ругали ли власть за это или нет?
– Ну что, может так между собой ругали, а чтобы так вот – нет.
– А так понимали, что – вот просто чтобы понять настроение жителей – они понимали, что раз война, значит тяжело.
– Да, конечно, ждали, когда лучше будет.
– А давайте вернемся к тому, как в школу пошли. Как относились учителя к вам?
– Нормально, нормально.
– То есть не как сейчас бывает, когда плюнут на детей?
– И мы учителей так уважали, что мы даже боялись их, чтобы вот после школы дети на улице встретиться с учителем. Это прямо считалось как ЧП. Чтобы ей показаться. Скажут, ты вот уроки делаешь, а гуляешь на улице. А сейчас учителя с учениками – не разберешь. Они одеваются еще лучше, чем учителя.
– А тогда учитель был уважаемым человеком?
– Да, да.
– Расскажите, а как был построен вообще учебный процесс? Вот скажем, может быть Вы помните, Вам давались учебники? Они бесплатные были?
– Какие учебники? Был один букварь, одна тетрадка и карандаш.
– На весь класс?
– Никто ничего не давал. Нет, ну у меня, например, карандаш был, тетрадка и букварь. Нет, учебники не давали никогда. Все время. Друг у дружки так вот брали. У кого есть, вот придешь домой уроки делать. Ну, к соседке пойдешь там. Возьмешь, сделаешь, если свое и нет книжки какой. Нет, этого не было.
– А медицинская помощь как была налажена в деревню? Может быть, был фельдшерский пункт?
– У нас в Раевке, например, не было вообще. Это километров за шесть было.
– А никогда не приезжали, допустим, фельдшеру?
– Нет. Ну так вот, кто сильно больной, там роды – приедет. Не врач, а медичка.
– Ну, фельдшер.
– Ну, фельдшер, да.
– А ветеринар тоже самое, если скотина захворала в какой-то…
– Ну, ветеринар был свой, деревенский.
– Свой был?
– Да.
– А к нему не обращались люди с лечением, нет?
– Ну, обращались.
– А скажите: может быть, во время войны здесь проходили солдаты когда-нибудь, может быть, здесь строили укрепления?
– Нет, не было.
– Солдат, военной техники?
– Не было, не было.
– А пленных?
– Тоже не видела.
– А может быть, какие-то или дезертиры, или, может быть, были объявления о том, что искать пленных, может быть, искать каких-нибудь дезертиров?
– Да нет, такого… что-то я не помню такого, не было. Мы тут в глуши, может, к нам не касалось.
– Деревня на самом деле большая. Больше 100 дворов.
– Большая деревня, большая была. Даже два колхоза было.
– Не один, а два?
– Потом объединили в один.
– А потом это уже после?
– Ну да, это уже после. Потом перебросили нас в Сатино, в соседнюю деревню. Соединили тоже. А уж потом вот в совхоз Филатовский. Ещё так вот нас кидали-кидали, вся деревня разбрелась. Мы не думали, чтоб Раевка разбрелась! Столько народ было. Школа была у нас такая, до четырёх классов. И потом её… почему её взяли, не знаю. Ну а школ раз нет, а детей много было. И вот начали потихоньку уезжать и уезжать. Сюда вот, на Филатовский много переселились. И так вот. Тут деревень много распалось.
– А как люди вообще жили в годы войны по своему, по разнице достатков? Скажем, были ли люди, которые жили более-менее прилично? Может быть были какие-то, связанные с властью?
– Ну, с властью, там у нас власти не много было. Чё было? Председатель, счетовод, кладовщик. Вот вся власть.
– А они как, лучше жили?
– Ну получше, конечно. Чё вы говорите? Это не секрет.
– А может быть были случаи, когда их подозревали в воровстве и осуждали?
– Да нет. Кто тогда чё понимал? Нет. Знали все, что они лучше живут. И дети их лучше, они более-менее обуты, одеты. Не говорим, как сейчас. Ну всё, не босые.
– А может быть, молодёжь в это время – вот молодёжь, то есть, там, 12 лет, 14 – может быть, они пытались как-то заработать, скажем, пойти не трудодни заработать в колхоз, а может быть, устроиться в какое-нибудь государственное предприятие. Может быть, в город рвались люди в это время?
– Ну, некоторые уезжали в город такие вот. Ну уж, годов по семнадцать вот такие. А двенадцать лет куда он от матери от отца поедет?
– Ну да. А скажите, может городские в это время приезжали? Вот Вы рассказали о том, что ваша семья приехала в деревню и поначалу вот просто жили у других. А вот другие люди из города, может быть, тоже приезжали, у них были похожие условия? Вы не знаете?
– Ну да, ну у кого-то примерно вот, это тоже в Челябинской области, там несколько семей-то уезжали, не мы одни. Ну у кого тут примерно мать оставалась, у кого-то там брат, сват, вот они к ним приезжали.
– А были ли беженцы из западных областей СССР?
– Да нет, была у нас одна учительница, она какая-то, как еврейка, ну как нерусская она, вот и всё, больше никого нет.
– А она жила как? Ей предоставил колхоз?
– Ну, квартиру. Нет, на квартире у людей. У колхоза не было никаких квартир, всё.
– А их не заставляли в колхозе, работать – учителей?
– Нет. Рабочих тогда много было. Хватало.
– А расскажите, пожалуйста, а можно ли… может быть, Вы вспомните год победный, 1945? Как восприняли Победу в деревне?
– Ну, Победу, конечно, хорошо восприняли.
– Праздновали?
– Ну, как же, господи. Да праздновали тогда… ну уж, конечно, после войны, хоть и тяжелые годы. А вот, примерно, октябрьскую, или День Победы: из колхоза давали там мясца, пшенца, ну, крупу там, чего. И давали по четвёрке этим, взрослым-то, чтобы отмечали праздник. Это было такое.
– Но это только советские праздники?
– Ну да, да.
– На религиозных праздниках такого не было?
– Нет, религиозные это сами справляли.
– А кстати, их справляли во время войны всё равно?
– Ну во время войны уж не так, когда голод был. А уж после войны это справляли. А дальше больше-то и вовсе.
– А часто говорят, что во время войны растет религиозность. Вот в деревне в это время были люди религиозные или нет?
– Ну, какие постарше, конечно.
– А молодые не так?
– Ну, молодые-то чего. У нас тем более церкви не было. Была раньше-раньше церковь, но потом уж ее разгромили.
– Получается – вас, в послевоенное время, вас принимали в октябрята?
– Обязательно. И октябрята, и комсомол. Секретарем была комсомольским.
– В деревне?
– Да, в деревне. Это уже после, я уже школу кончила. Молодежь была комсомольской.
– А что вы тогда делали? Тоже организовывали праздники? Или вы вели какую-то такую работу?
– Да нет, праздников нет. Они сами по себе организовывались. Потому что народа много, все собирались и религиозные праздники справляли.
– То есть единство людей было?
– Было, было. Дружные люди были, особенно… ну вот как и после, сколько лет я живу. Вот как жили в Раевке, нигде таких людей нету. Это как одна семья все были. У кого примерно похороны, все идут на помощь. Свадьба – все. Дружный очень был народ. Вот сюда, когда перешла жить, тут совсем не то. И вот мы бывало как из Раевки пришли сюда, соберёмся где-нибудь. Рынок сюда ездил, к нам. Ну и мы сразу прям кучкуемся. Ну, кто чего спросить. Ну, и нас тут эти филатовские, говорят – ну, собрались раевские. Ну, вот такие были люди, очень дружные.
– А каких они были фамилий? Были ли какие-то характерные фамилии для деревни?
– Ну, какие характерные?
– Ну, не знаю, может быть, какие-то особенные. В основном, каких фамилий были люди?
– Больше всех было фамилии Андреева, Мартынцева, Тимакова. Вот эти вот самые большие были. По многу людей.
– А у вас девичья фамилия?
– У меня она одна.
– Одна?
– Да.
– И еще хотел спросить, а в ходе войны как власть колхозная… потакали или препятствовали развитию подсобного хозяйства?
– Да и потакать не потакали, но её и тяжело очень было держать. Мясо брали, яйца брали, масло брали.
– Это всё налоги брали?
– Да. Вот там сколько, сорок килограмм что ли мяса брали, если держишь скотину. Яиц сколько, масла.
– И у вас в семье была скотина?
– Ну уж попозже была. Во время войны и сразу после войны не было. Ну тяжело очень матери было.
– А у соседей была скотина?
– Ну у некоторых была, но не у всех тоже.
– Ну немного было.
– Да.
– А какая?
– Ну корова – основное для деревни. Это же кормилица – корова. Ну коровы, куры, овцы.
– Понятно… А вот, может быть, вы помните, что вы ели во время войны? Вот, может быть, у вас готовили такие блюда, которые в другое время-то вы и не стали бы есть? Вот, ну вот, кроме того, может быть, не знаю, там, тюрю из чего-нибудь делали?
– Тюрю? Тюрю? Хлеба не было. А вот лебеду жарили со сливками. И это была вкуснятина. Вот так.
– А на рыбалку ребята ходили? Или тут далеко до реки?
– Далеко, да.
– Ну, это, наверное, было тяжело. Была бы рыба, было бы…
– О, конечно!
– А сады были?
– Да и садов еще в Раевке не было. Потом, это после войны, много прошло, стали сажать все, а то не было.
– И яблок тоже не было?
– Нет. Повезут сюда вот с других деревень. Гарчик купят, если есть на что. Ну, короче, их даже денег-то не было никаких. Меняли на зерно, на яйца вот так.
– Спасибо вам большое за интервью. Действительно, это очень было интересно послушать, как жили в деревне.
– Тяжело, тяжело.
– Спасибо вам большое.
Архив АНО «Тамбовское библиотечное общество». Аудиозапись.
№ 20
Из воспоминаний Л.А. Филатовой, 1939 года рождения, уроженки с. Чекмари Лысогорского района.
2024 г.
– Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл записей воспоминаний детей войны. И сегодня мы познакомимся с историей Лидии Александровны. Здравствуйте, Лидия Александровна!
– Здравствуйте.
– Расскажите, пожалуйста, о вас. Ваша фамилия Филатова, меняли ли Вы её?
– Нет.
– А когда Вы родились и где?
– Я родилась 14 августа 1939 года в селе Чекмари, бывший Лысогорский район, ныне Сосновский район. Вот там я прожила до 16 лет. В этом селе жили моя мать, нас трое детей, и у дедушки, и у бабушки мы жили.
– А кем они были по происхождению? Это были обычные крестьяне? Обычные колхозники?
– Да. Мои предки были обычные крестьяне, обычные колхозники. Никого у нас в родстве, никаких дворян, никого нет. Я всегда говорила и говорю, что самая главная дворянка – это моя прабабушка, которая работала горничной у барина в каком-то селе в Тамбовской области, Полозово, по-моему. Вот и все остальное, все крестьяне.
– И получается, что Ваша жизнь была, ну, на самом деле, обычной. Ваша семья испытывала те же тягости, те же лишения и те же радости, как и все другие?
– Да, конечно. Все жили в основном-то все, ну, так, примерно одинаково. Кто побольше работал, тот жил немножко лучше. Ну, в смысле – не богаче, а хотя бы так, хоть чуть-чуть. А кто плохо работал, тот и жил совсем плохо.
– А как вашу семью застало известие о начале войны?
– К сожалению, я этого не помню, поскольку я знаю, что мои два дяди воевали еще на финской войне. А потом я родилась ведь в 39-м году, и в 41-м году мне было всего там около двух лет, и поэтому я этого не помню. Я начала помнить свою жизнь с того момента, как принесли похоронку в наш дом. Принесли их сразу три в 1942 году, и тогда вот с этого я начала все помнить уже. Я помню, что когда принесли похоронку, полный дом был людей, все плакали, все причитали, все жаловались, что и этому принесли, и этому принесли, и этому принесли. И поэтому жизнь моего поколения, вот моего возраста, она началась именно вот с похоронок.
– 42-й год. А где именно? Это было летом 42-го года, когда принесли?
– Я это тоже не помню, когда это было… летом. Скорее всего, лето. Я только помню, что все плакали, причитали, друг другу сочувствовали. И поэтому… Но ведь там в то время, вот с этого времени, я уже помню, что почти в каждый дом они приходили, похоронки. И все сразу, почтальонка идёт, и все смотрят, кому она сейчас зайдёт. Ведь газеты немногие выписывали. Вот мой дед выписывал газету, а вообще-то газет не выписывали. Мало выписывали. А вот к кому она заходила – значит, туда похоронка пошла. Все бегом в этот дом. Вот так вот было. Но это было в 42-м году. Это как теперь, я знаю, что это был 42-й год. Тогда-то я этого не соображала. Но с этого момента я уже в основном помню, как война шла, как люди переживали, и помню… Но особенно хорошо я уже помню послевоенный год, 47-й, когда был сильный голод. Голод был очень сильный. Поскольку в 1946 году, как я помню, был неурожайный год, а в 47 году был голод. Правда, в этом голоде обвинили потом не погоду, а других людей, хотя вот все-то знали так, что был неурожай и был сильный голод. И много людей тогда поумерло от голода. Дай Бог, чтобы никому не пришлось переживать ни голод, ни войну. Слава Богу, что сейчас на нашей территории хотя бы нет войны.
– А может быть, в семье рассказывали о том, как было в 41-м году?
– Вы знаете, может быть, тогда и рассказывали, а когда вот уже я стала соображать и помнить, то разговоры о войне были постоянно. Ведь у соседей уходили дети на войну, у нас ушли дети на войну, и разговоры о войне были постоянно, и всегда только говорили так – дай бог, вот после войны, дай бог, чтобы только не было войны. Ни о чём никогда так вот не просили, а только о том, что дай бог, чтобы не было войны. Это, видимо, было самое страшное. Но до нашего населённого пункта война не дошла. Нас, слава богу, не бомбили. Но наше село в средине области, и до нас ни дорог не было, ничего не было. И поэтому ходили, вот в Тамбов ходили, но ходили пешком женщины. Пешком до Тамбова, пешком из Тамбова. Ничего, ходили. О войне разговоры всегда были. Разговоры были о Первой мировой войне. Дед мой был на Первой мировой войне, и они рассказывали, как там, что было. Поэтому война – это ужасная вещь. Это в любом случае. И воспоминания вот у моих предков… это было постоянно. Это было постоянно. Все люди были неграмотные, в основном. Некоторые там заканчивали, вот мой дед закончил три класса церковно-приходской. Мать была абсолютно неграмотная, абсолютно неграмотная. Но она всегда говорила – учитесь, учитесь, пока есть такая возможность, учитесь! Только будете учиться и будете жить. Не будете учиться – будете вот так работать в разнорабочих в колхозе. Всё, больше ничего не ожидала. Поэтому нам власть наша дала такую возможность, что я вот училась – и не только я, в нашем селе вот мои одноклассники, в основном кто-то получили образование – кто среднее, кто техническое, кто высшее образование получил. Вот и все.
– А вы начали учиться, если с 39-го года, наверное, как раз с 47-го года?
– Нет, я в 46-м году, 1 сентября пошла я в школу, и в 56-м году я закончила 10 классов. Но в школу мы ходили, ведь сейчас это всех надо возить, какие-то претензии, надо куда-то возить, надо какие-то автобусы, какие-то транспортные средства давать. А мы… я вот ходила в школу в первый класс, за километр школа была. В пятый класс, там была же школа начальная, потом была средняя, но она такая, до седьмого класса, я ходила за три километра. А в восьмой, девятый и десятый класс я ходила уже за восемь километров. Правда, тогда считалось – восемь, говорили восемь – сейчас вот мы в машине поехали, измерить надо. Оказывается, всего шесть. Но это тоже пешком. Причем мы ходили в школу в любую погоду. И в слякоть, и в дождь, и в снег, и в пургу. Мы ходили в школу. Поэтому… Ну а потом я закончила курсы бухгалтеров и уехала в Инжавинский район работать бухгалтером. Проработала там несколько лет, потом приехала в Тамбов и поступила в 63 году в Воронежский университет, и закончила Воронежский университет, юридический факультет. Ну потом работала и следователем, и судьей, и адвокатом, и помощником прокурора в областной прокуратуре. Вот вся моя биография. Но тогда все старались учиться в любом случае. Из нашего выпуска 10 класса вот один закончил Тимирязевскую академию, один закончил, один стал военным. Другой закончил Воронежский сельскохозяйственный институт. В основном все тогда старались получить образование. Старались, и все это получалось, и потому что все это абсолютно было бесплатно. Вот и все. Но я поздно поступила, потому что все-таки в другой город уезжать, на что-то надо было туда ехать, на что-то жить – а таких средств не было. Таких средств не было. Я уже работала, немного заработала, и поэтому тогда уже поступила. Но и не только я, и все мы тогда, наше поколение в основном все так.
– А начинается ведь всё со школы. Вы ходили, вы стремились учиться.
– Да. И стремились учиться, но ведь мы и видели какой труд. Вот я приходила из школы, вот я пришла шесть километров туда, шесть километров обратно. Пришла, а тут надо, дома у нас корова была, какое-то хозяйство было, надо было помогать по хозяйству в любом случае. И тут… так сказать, не считалось, ты потом уроки учи, когда хочешь, а по хозяйству помогай. Вот и всё, был распорядок дня, выходной, воскресенье, а ты тут вставай, иди сечку резать, там что-то делать. А голод был, картошку эту гнилую собирали. Вам этого даже не понять, как можно есть замороженную гнилую картошку. А мы ели, и моё поколение это ело, и моё поколение это знает. Поэтому вам этого, конечно, не понять, потому что вы, слава Богу, этого не переживали, и дай Бог, чтобы этого никогда не было. Вот какой вопрос. А сейчас ведь ещё получилось так, что сейчас и работать-то особо никто не хочет. А, не будет в магазине – привезут. Надеяться, что привезут – это бабушка надвое сказала. Потому что – то ли привезут, то ли нет. А у нас кругом санкции на Россию со всех сторон. Поэтому… Ну, теперь совсем другое. Уклад жизни другой. Вот вопрос какой. Совсем другой уклад жизни. К тому же резко изменилось и воспитание детей в семье. Теперь культ ребёнка в семье. А раньше был культ старшего в семье. Вот у нас, например, было так. Если дед что-то сказал там – пойди, сделай. И не пойдёшь. Мать сразу – ты чё сидишь? Тебе дед что сказал? Ну-ка, марш! И никаких разговоров. А теперь попробуйте. Даже папа не может ребёнку так сказать. Даже папа ограничен. А уж если шлёпнут ребёнка, так сразу, сразу какая-то комиссия, сразу отбирать детей. Зачем отбирать детей у родителей? Какие бы они ни были родители, это родители. И они всё равно воспитают лучше, чем в какой-то другой семье, в каком-то, а потом куда отдают детей. Сейчас всё изменилось. Я, например, со своего возраста удивляюсь всему этому. Как так можно? Но, тем не менее, жизнь идёт так.
– А детей отдают, когда в детские дома… у них нет возможности для воспитания. Там же меняются воспитательницы каждый год. Они к ним не привыкают.
– Всё правильно. И потом, воспитатели — это чужие люди. Это в любом случае чужие люди. И воспитатели… И потом, дети ограничены в любом случае в общении с другими детьми, дети ограничены жизнью вообще, за стенами детского дома. Хотя в детских домах дети жили, вот у нас одна была сотрудница, она их в детском доме воспитывала, хотя ее мать была жива, отца не было, а мать была жива, но она отдала их в детский дом. Но, видимо, не на что было жить совсем. Она говорила – как-то заговорили – она чуть что бывало сразу говорила, да, я вот в детском доме воспитывалась. Я говорю, ты мне скажи, ты в детском доме лето чем занималась? Она – как чем, в лагерь выезжали, отдыхали, в лагерь выезжали. Я говорю: а мы нет! А мы летом чуть свет вставали, огород полоть, в поле идти за сором, сейчас корову пригонят из стада, ей надо корм дать. Давайте огород полоть, поливать, тяпать и никакого просвета. Вот до тёмного мы, так сказать, бегаем, что-то делаем. А сейчас нет. А в детских домах, тем более сейчас в детских домах, ну что вы, сейчас совсем всё… совсем всё другое. Воспитание не то! Воспитание не то. И поэтому надо… надо как-то изменять эти отношения. Правда, сейчас я обращаю внимание на то, что всё-таки несколько повернулись к семье. И сейчас… то ли потому что год объявлен годом семьи, сейчас все-таки больше говорят о семье, о родителях и о порядке воспитания. А некоторые годы – вы, наверное, помните – ведь это было вообще, что родители там что-то скажут, сразу прибегает какая-то комиссия, отбирают ребенка. Вы подумали, что ребенку лучше или хуже будет? Ребенку в любом случае будет хуже.
– Это было в середине десятых.
– Ну, и не только, и позже тоже. А вот в последнее время несколько изменили отношения, поэтому я считаю, что это правильно, что отношение к семье должно быть абсолютно адекватным не только времени, но и условиям жизни. И оно должно быть только в интересах ребёнка. Только в интересах ребёнка. И ребёнка надо в любом случае воспитывать в порядке патриотизма, а сейчас этого нет. Сейчас этого нет, никакого патриотизма. Пытаются что-то вот сказать, пытаются сейчас хотя бы вот на фоне украинских событий объяснять, что вот, так и так и так. Но это пока только пытаются. Это последствия еще могут быть больше. А сейчас пока… А дети сейчас… Что мы – дошли до того, что девочки избивают людей на улицах? Это что такое? В моё время, в мою молодость, чтобы девочка могла позволить себе поднять руку на кого-то на улице, этого даже в мыслях ни у кого не было. А теперь вот такой ужас. Это опять о чём свидетельствует? О воспитании. И не только в семье! Не семья в этом виновата, а общество. Потому что нет профилактики никакой, нет этих познавательных передач, познавательных каких-то лекций. Ничего этого сейчас нет. Но сейчас, правда, начинают всё-таки, начинают. Это несколько успокаивает, что может быть другое поколение. А воспитывать надо, как раньше говорили – пока ребёнок поперёк лавки лежит. Раньше так говорили. Сейчас не говорят, сейчас всё по науке. Но, вы знаете… Вот такие вот дела.
– Лидия Александровна, а ведь в ваше время государственная политика была направлена на то, чтобы дать детям образ, хороший образ. Детские произведения, Тимур и его команда. Сколько можно назвать многих произведений, которые были направлены на то, чтобы дать человеку… Ну, идеал сложно сказать, но в целом да, идеал. Каким должен быть юноша, какой должна быть девочка, да. А сейчас идеал — это кривляться на сцене.
– А сейчас, во-первых, не только кривляться, сейчас идеал, вообще у государства идеал — это только деньги. Вы обратите внимание, какие рекламы идут? Какие рекламы идут? Только о деньгах. Какие передачи идут? Ведь посмотрите любые, вы же видите любые фильмы. В любом только богатство впереди. Вот богатство. Девочка, она ищет только, как бы выйти замуж за богатого, не важно, что потом будет, не важно, какие там чувства, а вот богатый чтоб был. Сейчас воспитание только на богатство. А это не совсем правильно и не совсем хорошо. Это не только не совсем правильно. Это совсем неправильно! Потому что воспитывать-то надо, чтобы вот это богатство… Ты можешь себе заработать богатство, но ты его заработай! А когда ты сам заработал, то ты и относишься к этому богатству совершенно по-другому. А когда ты просто так получил, то тебе ничего и не жалко. Ты и бросаешь налево и направо. И идёшь покупать пиво, и идти по улице, пить из бутылки. Вот вопрос в чём. Поэтому надо в корне менять условия воспитания. И книги. Где сейчас детские книги? Хоть одну прорекламировали, детскую книгу? А раньше были Чук и Гек, Четвёртая высота, Хижина дяди Тома. Это тоже воспитание, потому что Хижина дяди Тома – там тоже описывается о переживаниях людей, и это тоже воспитывало. А сейчас ничего этого нет. Да их никто и не читает книги теперь. Вот вопрос в чём! Поэтому, ну, может быть, потому что сейчас и почитать нечего такого, а только те, что старые, остались вот старых писателей и поэтов. Поэтому всё надо в этом плане бы менять, но пока это не сдвигается. Ну, может быть, я не доживу, но, может быть, вы доживёте до того времени, когда будет воспитываться и патриотизм, и образование настоящее. А то сейчас смотришь, какой придумали ЕГЭ. Что это за ЕГЭ? Что это за вопросы на этом ЕГЭ? Я как услышала, даже один из вопросов. В каком берете была… Нет, какого цвета берет был на голове у Татьяны Лариной во время бала? Позвольте, это что, очень существенный момент из Евгения Онегина? Конечно, нет! И почему его надо было задавать на ЕГЭ? Это просто пародия на всё. Какой-то ЕГЭ! Были выпускные экзамены. Всё правильно. Человек готовился к этим выпускным, а не какие-то тесты. Задали пять вопросов, и на них три ответа. На каждый вопрос по три ответа. Выбирайте! Это не образование. Но, тем не менее, говорят, что это всё правильно. Нет, это неправильно. Должно быть – но это я так считаю, это моё личное мнение. Поэтому образование должно быть. Были выпускные экзамены. И правильно, что они были. Потому что человек к выпускным экзаменам готовился полностью по всей программе, по всей книжке, как скажем так, грубо выражаясь. Вот есть физика. Тебе сдавать экзамен выпускной. Ты и будешь повторять всё к экзамену, всю книжку будешь повторять. И это было правильно, потому что ты уже шёл дальше учиться, ты уже это всё повторил, и ты где-то в чём-то разбираешься. А что такое – берет какого цвета? Зачем он мне нужен? Запоминать об этом ещё. Другой вопрос — смысл этого произведения. А это что? Ну, не мы решаем, к сожалению, эти вопросы.
– А к тому, что сдавать выпускные экзамены, это всегда беседовать с другими людьми. Это беседовать с одноклассниками. У вас учебников все равно всех не хватает. Всегда ходят друг к другу. И в ваше время наверняка их не хватало всегда в библиотеке. Если хватает каких-то, может быть, у кого-то он порвался, у кого-то что-то случилось, вы приходите к товарищу, вы с ним вместе беседуете, вы готовитесь.
– Всё правильно, мы вместе учим, вместе повторяем, вместе друг другу выясняем что-то. А сейчас ЕГЭ: вот задали вопросник, вот по вопросам ищи там ответы в этом Евгении Онегине. Ну, будешь ты искать цвет этого берета, и толк какой? Никакого. Смысл Евгения Онегина всё равно не поймёшь. Нет, выпускные экзамены – это я считаю, это моё личное мнение, я считаю, что это абсолютно правильно было бы вернуть выпускные экзамены. Это было бы правильно. А ЕГЭ — это не знание. Это, как говорят, в пустоту какую-то. Что значит на один вопрос три ответа? Угадайте. Нет, это неправильно. Ну, не нам решать этих вопросов.
– Даа… Лидия Александровна, а что ещё можно сказать хорошего о той школе в пику современной? То есть, что можно было бы взять из вашего образования? У вас действительно голодное послевоенное время. Не всегда всего хватает, но люди стремятся учиться. Вот что ещё? Какие ещё были для вас идеалы? Почему вы учились? Почему вы так… почему вы стремились учиться? Ведь я слушаю вас, чтобы вы ходили за 6 километров, а сейчас школу стремятся прогуливать. А сейчас придут в школу, во-первых, телефон у всех, смартфоны, берут у себя смартфон, и на задней парте смотрят, не слушают учителя. Некоторые даже курят, сейчас же модны электронные сигареты, некоторые их курят. Иногда тоже на задних партах, такое бывает. Люди не хотят учиться, они не видят, идеала в обучении. У вас же он был. Вот что ещё можно взять из той школы?
– Я вам знаете, что скажу. Раньше учителя были преданы своему делу. Они были настолько преданы, что если ученик в классе отставал по какому-то предмету – возьмём по математике, то учитель математики, ну алгебра, геометрия, тригонометрия были эти предметы, вот один учитель их вёл. Вот если по этим предметам какой-то ученик в классе отставал, один даже, даже если один. Учитель безо всякого вопроса говорил, после обеда остаёшься. Это значит, после последнего урока остаёшься, и учитель с тобой будет заниматься. А что сейчас есть в школе? Учитель по математике, у неё не успевает несколько учеников в классе. Она им говорит – идите, приглашайте себе, нанимайте себе репетитора. И причем этот ученик приходит к репетитору, а этот репетитор — учитель в соседнем классе. Вы меня извините, это что? А тот учитель своих учеников направляет к этому учителю. Идите репетитора нанимайте. Вот я и говорила вам уже. Всё упирается теперь в деньги. Учителя теперь не заинтересованы в классе, не заинтересованы! Они раньше переживали, чтобы все ученики… экзамен, последний экзамен, школьный экзамен за учебный год, чтобы ученики все сдали этот экзамен. А теперь они не переживают. Зачем им переживать? Не стоит. Они получают деньги за репетиторство, а в классе это… постольку-постольку. Вот в чем разница. Разница в том, что нет людей, учителей, преданных своему делу. Если бы они были преданы, они бы так и учили детей. А то сейчас задают: ученик в первом классе, ему там столько задают и того, а учитель в школе ничего толком не объясняет. И родители сидят теперь вместо учителя со своим ребёнком, всё учат, снова учат. Первый, пятый и десятый – всё. До десятого класса теперь сидят с учениками дома. Это опять потому, что учителя так относятся к своему, к своей работе. Их интересует только репетиторство, и опять все упирается в деньги. Вот что сейчас сделали с образованием.
– Да и вообще со всеми людьми. Это же люди приходят в учителя, это срез нашего общества.
– Да, да. Если раньше учитель шёл по селу, то перед ним все кланялись ему. Все мужчины шапки снимали перед учителем. И это был очень уважаемый человек в селе. Вот я сельский человек. Я и работала много в селе. Я сельский человек. И учитель – это был всегда на высоте и выше всех. Вот и всё. Поэтому… А сейчас кто такой учитель? А толк от него какой? Никакого! Потому что учителя теперь родители. А мы учились, мне мама ничего не могла подсказать, она два и два не могла сложить, она неграмотный человек, она ни одной буквы не знала. И тем не менее в то время я получила такое хорошее образование, что я поступила в университет и закончила его. И неплохо закончила. И работала на хороших работах. Вот какой вопрос. Всё изменилось в отношениях ко всему. Так же, как возьмём и в медицине, то же самое. У нас теперь всё, вот всё настолько изменилось и в худшую сторону, что говорят там что-то… Ну, я, наверное, очень отсталый человек от всего, вот в каком плане. А и в медицине то же самое. Ведь сейчас говорят, что недостает медицинских работников, недостает медицинских работников. Всё правильно. Туда уже, по-моему, никто и не идёт, особо в медицину. Раньше тоже туда шли сугубо преданные люди профессии. Всё с этого начинается. Вы поступаете в институт, вы думаете, куда вы пойдёте работать, и как вы будете работать, если вы выбрали себе профессию – та, которая вас устраивает, и вы работаете с удовольствием на ней. Вот и всё. Я работала следователем, я не знала ни дня, ни ночи, ни одного выходного и праздника. Ничего я не знала! У меня была только работа. Я вскакивала и бегом на работу. А там ещё ночью приедут и увезут на происшествие. И ничего! Я с удовольствием выполняла свою работу. С удовольствием! Вот и всё. Поэтому… это многое зависит. Но это многое зависит от того, как учителя привили вам прилежность и желание учиться. А учиться никогда не поздно. Даже когда работаешь – это тоже учеба. Постоянная учеба. Работа – это тоже постоянная учеба. Вот что я вам могу сказать.
– А вот когда вы сказали о медицине, я подумал: а ведь как было дело в деревне, с сельской медициной в то время, когда…
– У нас в деревне был маленький медпункт. Была одна медсестра. Фельдшер она называлась. Я не знаю, сейчас есть эта профессия или нет, но тогда называлась фельдшер. Эта медсестра принимала больных и периодически обходила всё село. Периодически. Там нечасто, но обходила всё село. Вот. Там у кого какие-то эти самые… Когда прививки, то обходила всех абсолютно и никаких проблем не было. Потом у нас в деревне открыли даже маленький родильный дом на шесть коек всего-навсего и у нас было это все и там был потом фельдшер, акушерка она была и была медсестра и все было правильно. А теперь уничтожили, то есть убрали этот медпункт и у нас в деревне теперь – и теперь во многих селах – медицинских фельдшерских пунктов нет и значит люди должны куда-то в какое-то село идти добираться к медику. Это с чем связано? Это опять связано с деньгами. Опять связано с деньгами. А тогда это было, так сказать, есть медичка – ее у нас в деревне называли. Пойду к медичке, что-нибудь скажет, что делать. Вот и все! Поэтому и в медицине сейчас ведь очень много вот откроют – фельдшерский пункт. Какой-то там сарайчик построят и на всю страну скорее объявляют, что построили наконец-то – ФАП теперь это называется – построили медицинский пункт, да слава богу. Слава богу, людей избавили от этой ходьбы в соседние села за несколько километров. Но теперь-то ведь мы приходим к тому, что и несколько сел перестали существовать. Опять почему? Опять из-за вот из-за того: там нет медицинского никакого учреждения, нет начальной школы. Правда, и детей теперь стало мало. Вот у нас деревня была начальная школа. У нас было три первых класса. Три вторых, три третьих. Было три первых, три вторых, три третьих, три четвёртых класса. Было четыре учительницы. Всё! Учителя с нами занимались. Учителя с нами проводили какие-то внеклассные занятия. Ходили на прогулки в поле, потому что у нас лесов не было. Мы в поле ходили с учителем на прогулки. Вот она нам что-то там рассказывала, показывала. Но это было опять призвание учителя. Вот, поэтому, знаете… а потом, а теперь в деревне, вот в нашем селе нет ни школы, ни медицинского пункта, ничего у нас теперь нет. И школу закрыли – всё, нет там школы. Хотя село ещё существует пока. Всё вот к этому упирается, всё, и в деньги, конечно, конечно, в государстве и денег мало. Почему теперь объявляют эти постоянные сборы на всё и вся? Что меня очень удручает, это меня опять лично, что собирают деньги на лечение больных детей. Это как понять? На лечение больного ребёнка собирают деньги. Мамочка просит со слезами – помогите, это больной ребёнок, его, конечно, научили, а он лопочет, говорит – помогите, пожалуйста, мне. Это до слёз обидно, за государство обидно. Может быть, я говорю что-то непотребное, но пусть меня поймут правильно. И это непотребно, когда на детей собирают деньги у граждан. Вот, это опять моё личное мнение. Но не только моё. Я знаю точно, что не только моё.
– Конечно.
– Это конечно. Поэтому, как покажут этого больного ребёнка и его мамочку, до слёз обидно.
– И ведь получается, что тогда денег было меньше, были большие трудности. Конечно, и в военное время, и в послевоенное время они были, но никогда не было подобной игры на чувствах людей. Это действительно игра на чувствах людей, когда государство самоустраняется от решения проблем больного ребенка.
– Понимаете, ведь вот во время войны я лично не помню, чтобы что-то собирали для фронта. Я лично не помню. И никогда я не помню, вот когда уже я стала соображать даже, и даже после войны, чтобы когда-то кто-то или как-то там осуждали какие-то порядки, какие-то что-то. Единственное, о чём возмущались, то это во время войны о больших налогах. А налоги были на всё! Денег не было у людей, а налоги были на всё. Вы даже, наверное, не знаете, но налоги были на вишню, на яблони, на скот. Скот есть? Есть две овцы? Налог плати. Есть корова? Плати налог, в любом случае. Кроме того, собирали масло. Сливочное масло собирали, было какое-то тоже. Сколько-то должны сдать от коровы, сколько-то должны сдать. Это всё правильно, это была война, и люди всё понимали, вот говорили, что «Ой, ну когда же это всё кончится, налоги задушили». И тут же люди говорили – а что делать-то? Война! Её содержать надо. Вот даже неграмотные люди в селе это всё равно понимали. Хотя налогом возмущались, это точно, но никогда не возмущались никаким вот там порядком чего-то там и что-то, никогда не возмущались. А что делать? Это война. Но ведь после войны сразу люди сразу стали жить лучше и намного лучше. В 48 году вот провели денежную реформу – ее правильно провели, потому что много было фальшивых денег, тут ходили по селам разные калитки-хожалы, как их звали, вот ходили по селам эти калитки-хожалы, неизвестно, что они там проповедовали, неизвестно, но известно, но их, так сказать, быстро изгоняли. Но дело все в том, много было, и реформу сделали, денежную, все правильно ее сделали, но это теперь я уже понимаю, что все правильно, тогда я в деньгах ничего не понимала, но в сорок восьмом году и каждый год – до пятьдесят второго года – каждый год, первого апреля было снижение цен, и снижение цен было не просто там на какие-то подследники при Хрущеве, помню, объявили, на три копейки снизили, это при Хрущеве. А при Сталине снижение было на все товары абсолютно. Вот была газета «Правда» на трёх полосах, и на каждой странице ничего не печаталось в этой газете за 1 апреля, только снижение цен. Мелким шрифтом, и это снижение цен было абсолютно на всё. Абсолютно на всё. И так оно пошло, и пошло, и пошло, снижение цен. До 52-го года… пришёл Никита Сергеевич. Всё. В первый же год повысили цену на масло. Временно. И насовсем. И не на много, не на мало – а на 50 на 100% увеличили цену на масло. И потом пошло всё. Повышение, и повышение, и повышение. Ну а сейчас говорить не стоит. Какие повышения цен и на что. Поэтому… Ну, сейчас в стране действительно идёт война, и поэтому мы должны всё-таки содержать эту войну. Но горько-то опять то, что это повышение цен не идёт в доход государства, а идёт частникам. Владельцы магазинов повышают цены, и они получают эти прибыли. Ну, платят они подоходный налог, там 13%, ну и что? Ну и НДС они платят 20%. Ну и всё, остальное всё у них остаётся. Почему теперь столько богатых? Почему такое теперь расслоение в населении? Потому что вот теперь частники всем владеют и повышается всё. А тогда это было стабильно, государственно. И все люди ждали. Ой, завтра 1 апреля. Завтра снижение цен будет. Вот почему всё это. Поэтому, знаете… Все равно жили трудно, но жили весело и жили дружно. Если что-то у кого-то случалось, вот все село там, кто-то сгорел, все село, молча, безо всякого объявления – ой, у этого там пожар, скорей, надо отнести, вот это, вот это, у кого что есть, у кого что есть, и никто ни с чем не считался, последнее отдадут, но отнесут. Строить дом надо – всё, всё село идет и строит без разговоров, без приглашений. Идут, что помочь, что сделать. А сейчас попробуйте.
– Лидия Александровна, а кстати, а может быть у вас в селе были беженцы во время Великой Отечественной?
– Одна семья была, дедуля и бабуля. С Украины они были, его звали почему-то Дед Мороз, я даже не знаю, как его звали. А Дед Мороз его звали – у него была большая борода, и он был абсолютно лысый, и белая борода была. Его звали Дед Мороз почему-то. И у него бабушка была. Они были с Украины. У них был домик. Я не знаю, как они получили этот домик, кто именно, колхоз построил этот домик им. Они жили вдвоём. Он работал в колхозе. Бабуля тоже работала в колхозе, пока могла работать. Потом она не работала в колхозе. Но, тем не менее, в колхозе-то ведь денег не платили, но на трудодни-то платили. На трудодни платили. Вы даже, наверное, не представляете, сколько платили. Вот я вам скажу, на трудодни платили 50 грамм… 50 граммов проса, 100 грамм пшеницы, 200 или 150 грамм, точно не могу сказать, ржи. У нас в колхозе был сад, давали яблоки, хотя сады были у всех почти подряд, у населения, у всех подряд были сады. У нас был пчельник, и даже мёд давали на трудодни. И опять, получали много… и этого хватало, у кого было много трудодней – то есть, кто хорошо работал. Вот моя мать, она неграмотный человек, но она трудолюбивый человек. Она была передовая колхозница. Она была уважаемый человек в колхозе, потому что она была передовая колхозница, у нее всегда больше всех трудодней. И бывает, когда получают вот этот раздел – после того, как колхоз заготовит семена, колхоз сдаст хлебозаготовки, все по хлебозаготовкам рассчитается – и остаток распределяют по трудодням, кому сколько придется. Вот начисляются и получают. И везут там, кто-то немножко, у кого сколько трудодней, все зависело от этого. Но тем не менее, это все-таки тоже оплата, а хлеб – это основной продукт. И поэтому, так сказать… Жили, в общем-то, бедно, но тем не менее. Но было равноправие. И это знали, что это колхозное. Никто там… Воры всегда везде были воры, но не настолько. А теперь замминистра обороны, какие-то сотни миллионов, и его в тюрьму посадили.
– Сегодня прошла еще новость, что заместителя начальника Генштаба…
– И начальник управления кадров арестован. 100 миллионов. Это откуда? Это как? Почему никто не знал, что у него 100 миллионов, откуда они у него? Простая арифметика. Вот твоя зарплата, вот сколько ты за год заработал, вот сколько ты мог израсходовать, вот у тебя что могло остаться. Это простая арифметика. Плюс-минус и все! И вдруг никто ничего не знал. У того сколько-то домов, сколько-то квартир… Ну и как это? Нет. В то время было… У нас проворовалась секретарь сельского совета в селе в нашем. Ее быстренько арестовали. И, так сказать, ну, комсомолить у нее нечего было. Она одевалась хорошо, хотя там были тоже копейки. Она проворовалась. Люди платили самообложение, а она не выдавала им… Она им выдавала квитанции, но на бумажке, а деньги присваивала. Вот. И потом… Но её и всё не уважали, потому что она, например, приходила в дом и говорила: так, тёть Маш, мне надо вот столько-то масла. И никаких дел. И попробуйте не дать! Она тут будет с вами. Ну вот потом обвинили во всём тут: вот это власть, это туда-сюда. Но власти-то этой кто приказывал, что ли? Ведь сверху ей никто ничего этого не приказывал, она делала это сама. Но потом, конечно, ее посадили с председателя сельсовета, сняли с работы. Сняли публично, сняли с работы, что это такое и как это так. Ну, ее осудили, потом в 1953 году ее освободили. И самое интересное, что я уже следователем работала, и она ко мне заявляется в прокуратуру. Я ее даже не узнала, поскольку я там уехала и не помню ее. И она вдруг заявляется и говорит, я вот так и так, и такая, и такая. И что хотела? Что хотела? Да я пришла вот посоветоваться, помоги. Всё-таки ты односельчанка, помоги. Я говорю – что? А она, будучи у власти такой небольшой, в ЗАГСе убрала своё свидетельство о рождении, корешок свидетельства о рождении, и убавила себе возраст на 10 лет. А теперь, когда подошёл срок на пенсию, она решила его восстановить. Но уже, увы, невозможно. Как же это так? Я говорю, а ты чё думала-то? Ты чё думал, ты моложе будешь, что ты убавишь возраст? Поэтому… Ведь тогда тоже мошенники эти были везде. И воры были везде. Но тем не менее: если в колхозе кто-то что-то украл, ему на колхозном собрании такой прочёс сделают, что, будьте уверены, второй раз не пойдёшь. Вот как. И никто никого не боялся. А теперь попробуйте выступить против кого-то. И что от этого будет? Завтра, как выражались у нас, перо в бок. Или в тюрьму посадят, или в психушку отправят. Теперь-то только так. Или в психушку, или на тот свет, или в тюрьму – сходу. Вот и всё.
– А тогда колхозники долго её, ну, как сказать, терпели? Они пытались на неё жаловаться, вы не знаете?
– А нет, никто не жаловался, потому что никто не знал, что живёт, шикует, одевается. Ведь тогда появилось крепдешиновое платье у женщины молодой. Это откуда-то? Зарплата у неё вон какая-то, откуда такое это самое? Ну, поговорили и всё. А потом обнаружили, там какая-то из наших односельчан обратилась с этой квитанцией куда-то в какие-то органы, а обнаружили, что эта квитанция – не квитанция, по ней ничего не оприходовано. И поэтому стали копать, и у нее накопали по тем временам, это ее судили в 58-м.. нет, в 54, 55 году, наверное. Но я ещё в школу ходила. Её судили тогда, всё село собралось смотреть на неё. Ругались на неё там все. Ей дали не много, не мало – двадцать лет лишения свободы. Но у неё было, набрала она всего, всего она набрала шестьдесят четыре тысячи. Я это знаю точно, потому что следователь, который вёл это дело, у нас на квартире жил. Я следователем не случайно оказалась. Вот. Он жил у нас на квартире, и я знала. Разговаривает он, приходит и рассказывает. Ну а мы тут, а я ушки навострила, и я всё всегда слушала. Вот. И у неё 64 тысячи. Жалко было её секретаря, то есть помощницу, которая получила от неё всего-навсего 300 рублей. За эти 300 рублей она там себе платье сшила, что-то еще там, вот. И той дали 20 лет с конфискацией и с выселкой на 5 лет ссылки, на 5 лет ссылки, еще это после отбытия. А Клавке дали, по-моему, 6. Ну, Клавку было жалко, все жалели Клавку, а эту никто не жалел. Но, тем не менее, ведь тогда вот какие сроки, а теперь что? А теперь сто миллионов! Его задержали, арестовали, поговорили и замолчали. А потом хлоп – пять лет лишения свободы, условно сроком на три года. Извините меня, это как? Я юрист. Я поражаюсь этому. Это как?
– Это особо крупный размер.
– Это особо крупный размер! И ему вдруг условно… Вы меня извините, это как? В советское время за особо крупный размер статья была до расстрела. И правильно расстреляли директора Елисеевского магазина. Сейчас кричат, что незаконно, неправильно. Все правильно! Один раз расстреляли, объявили, второй подумает. А теперь что? Ну посадят. А миллион-то у меня есть! Им же даже конфискацию не применяют, поскольку её исключили. Им же даже не применяют конфискацию. И ущерб частично взыскивают. Вот. Ну, это вот несправедливость. Это вот несправедливость. Правда, не все это понимают, но я лично понимаю, потому что я всё-таки юрист какой-никакой. Вот. И поэтому, и как скажут, 100 миллионов, 40 миллионов – и три года условно. Что такое условно? Это ничего! Поэтому и воруют. Поэтому и взятки берут такие огромные. Потому что знают, что – ну посадят, ну и что? Ну посижу. А миллион-то у меня есть?
– Конечно.
– Безнаказанность всегда имеет плохой результат. Всегда! И меня в этом никогда никто не переубедит. И я думаю, что со мной и вы согласитесь.
– Конечно!
– Что безнаказанность – это плохой результат в любом случае.
– И люди, даже если они не понимают это сознанием, они все равно подсознательно видят, что нужно воровать вагонами и избежать всего.
– И всего избежать. И будешь жить привольно! И благополучно. Ну правда, они иногда заканчивают плохо. Я всегда вспоминаю покойного Джураева. Он, помню, на телевидении, может быть вы помните такого, может и нет, вряд ли, вряд ли вы его помните, он был начальник уголовного розыска УВД, даже не уголовного розыска, а УБОП по имущественным преступлениям. Значит, я его знаю, Джураева я знаю с детства, когда еще в школу ходил. Он был хулиган, страшный хулиган был! Мать пришла в милицию, уговорила взять его в милицию, иначе он сядет, и что я с ним делать буду? Его взяли в милицию. Он работал рядовым в милиции, рядовым. Но такой… я судьей уже работала, и он возил указников, привезет, и всегда заходит и просит: Лидия Александровна, ну дай штраф! Я на него так гляжу, какой штраф? Пятнадцать суток, до свидания! Я знала уже: я раз его послушала, два послушала. Потом стало выяснять: оказывается, он с этих берет мзду небольшую и просит, чтобы им дали штраф, а не сутки, не арест. Вот результат, с чего началось все. И результат: он дошел до больших верхов, а результат? Его все равно пристрелили. И охрана у него была… это работник милиции: как это в мое время мог позволить себе работник милиции ходить с охраной? Это что за работник милиции? А у него охрана была и тем не менее кому его убить нашли его как убить – сел в машину, подошли, стрельнули, и ушли, всё! Бесшумным пистолетом – и до свидания, и остался сидеть в машине. Вот все так.
– А тогда милиция в селе… Насколько она была близка к народу?
– Ну у нас участковый жил в нашем селе. Он всё знал про всех, всё ходил, так сказать. Нормально относился. Из райцентра к нам милиция не приезжала, у нас в селе не было никаких тяжких преступлений. У нас всё было тихо. Ну если в колхозе что-то украдут – вот, привлекут. Но не было такого, чтобы кого-то привлекали. У нас не было, вот в мое время, когда я там жила, не было никаких убийств. Это единственное громкое дело, это вот по сельскому совету. А других никаких дел не было вообще. Хулиганов никаких у нас не было. У нас, если кто-то выяснял отношения, молодежь, это выяснялось всё на кулачках. Были кулачки. Вот на кулачках они становились друг против друга, и выясняли все свои неприязненные отношения. И на этом все кончалось. Даже в клубе вечером на улицу выходили, никаких драк особых не было. У нас спокойное село было, и участковый… наверное, спокойно жилось в нашем селе, потому что и так он не ходил по домам, ничего не опрашивал, никого, ничего. Я никогда не видела его.
– А в клуб ходила молодежь примерно с какого возраста, когда их родители отпускать начинали?
– Ну вот с такого возраста бегали уже, вот такие вот, дошкольники, все уже бегали в клуб, там кино привозили к нам раз в неделю, вот такие бобины там были, колеса, киномеханик приезжал, и мы в кино в этот набивались, в этот клуб там кто смотрел, а мы в окна, все у окон. Вот как отпускали, мы все бегали, когда придется, до самого позднего вечера, прибегали и домой спать. Всё! Никаких дел. Никаких проблем. Летом мы все спали в огороде, в саду. У нас сады. Все в саду. На траве. Дерюжку постелили. Вы даже не знаете, что это такое! Это самотканые половики, сшитые, делали из них типа одеяло. Вот ее постелили на траву и на ней спи. Все! Никто никого не боялся. Дверь никогда никто не закрывал, никто никогда не закрывал. Все открыто. Заходи, кто хочешь, когда хочешь. Все. Все знали, что никто не войдет. Никто ничего не возьмет. Никто никого не убьет.
– Ну да, это другая просто была культура отношений. Это не как сейчас. Обязательно надо везде поставить забор в два метра.
– Забор, домофон, глазок. Там теперь еще устанавливают видео какие-то, чтобы посмотреть. Даже рекламу где-то я видела. Смотри, кто пришел. Чего смотреть? Мы никогда… Да не, у всех, в деревне ни у кого, никто не закрывал двери. Никто. И все летом, все спали. Кто на пороге, в сенцах, в саду, кто где, спали и всё. И ходили. Сейчас детей никуда не отпускают, никуда не ходят. Детей за ручку водят. Вот мамочка сидит на скамеечке, ребёночек тут бегает. Но теперь попробуйте этому ребёночка сделать какое-нибудь замечание. Вас мамочка так обложит, так обдерёт, что… так сказать. А тогда нас могли и отлупить родители, если бы там чего-то. Ну, тётя Нюра выйдет, как даст, и всё! Вот так было. Нет, тогда было спокойно. Уже не спокойно, вот когда я приехала в Инжавинский район, уже следователем работать. Это, в общем-то, район бандитский, той банды антоновской, которую вы тоже не знаете. Правда, сейчас её оправдали, сейчас на пьедестал возводит эту банду, чего её возводить. Но она, эта банда, была против советской власти в любом случае, и Антонов был начальником милиции в Кирсанове, и он руководил этой бандой. А в селе он сам из Инжавина, у него брат жил в Инжавине. И поэтому район… вообще бандитский район. Вот там, когда я туда приехала, у меня первое время было впечатление, вот не впечатление, а какое-то вот подсознание где-то, что я не живу тут, а я где-то там, вот с этими уголовниками, где-то вот что-то вот какое-то было вот такое. Район очень тяжелый, скандальный, причем… там ведь вот если видели драку, никто не скажет никогда, что он это видел. Не знаю, не видала, всё, как хотите! Потому что район такой тяжелый, что никогда никому ничего не скажут и не признаются. Тогда вот там семью убили у нас. Там два уголовника. Один из них психбольной был, а второй-то нет. Семью убили за то, что они на току воровали зерно. А там сторож был и сказал: ребят, вы что делаете? Меня ж посадят, я ж сторож-то. Они ему сказали, замолкни, а он все равно своего. Я их завтра доложу, потому что зерно-то вы увезли. Ну не всё, но тем не менее. Ну они ночью пришли и их всех убили. Мальчишка один остался, успел под кровать залезть. Они его не нашли. Они не знали, что еще у них пацан такой есть. И вот там бабуля видела, как эти ребята зашли к ним, не призналась. Вот установили, что она видела. Следователь вел дело у нас в Инжавине Терещенко, покойный ныне. Он, значит, ее говорит, ну ведь я же тебя привлеку к уголовной ответственности, вот смотри – статья. Вот ведь говорят, что ты видела, ты видела, ты с ними разговаривала. Не знаю, не видела, ничего не знаю, сажайте куда хотите! Всё.
– А почему так? Как думаете? Ведь это же по сути другой народ, другая культура.
– Понимаете, другой народ, другая культура, потому что там был район вообще бандитский. Там много сел, где были именно одни бандиты и все были против советской власти. Вот и Балыклей, и… ну очень много сел, очень много. И Николино, и Чернавка, и Инжавино, и Семёновка. А Семёновка это вообще прям сплошные бандиты были. Очень трудный народ, но народ был там всегда зажиточный, поскольку они занимались торговлей. Там народ в основном такие, зажиточные все были. Поэтому такие тяжелые.
– А вас, антоновцев, не было в вашем селе?
– В нашем селе нет. У нас никаких бандитов, никого у нас не было. У нас уходили в банду. Вот у соседей отец ушел в банду и погиб там, но их так и звали – бандиты. Отец был бандит, а их звали бандиты.
– А какое к ним было отношение потом?
– Работали в колхозе никакого, ничего не хулиганили. Они были по характеру трудные люди, но тем не менее, они были, вот их звали бандиты. Бандиты. Это Егоровы бандиты. Но во время голода я тогда, вот в свои 7-8 лет, я видела людей опухших от голода. Я видела таких людей, и вот они там не выходят несколько дней, а дед заходит и бабушке говорит – что Егоровых не видать, да бог с ними, не видать их и не видать. А они у нас, мы бы не голодовали, но они у нас украли всю картошку, которую мы тогда все закапали в конце огорода в яму на зиму. Вот. И они у нас, где-то говорили, сидят и говорят, ну, мы этот голод переживём, у нас картошки ещё в 80 ведер, 40 мер картошки, и мы переживём голод. И через день решили идти откапывать яму в марте. Пошли, а там уже ни одной картошки нет. Всё. Всё украли. Вот. И они всю эту картошку съели. Конечно, их было три сына и мать. Они украли всю эту картошку. Вот. И потом они не выходят. И дед пошел их поглядеть. Приходит и говорит, так, дай мне махотку молока прокислого. Она – на кой. Он говорит, пойду Егоровых отпаивать. Они лежат все пухлые. Они помрут. Она – не дам, они детей оставили голодными! Не дам. Он говорит – я тебя сейчас шпандерем не дам. Вот. Ну она дает ему махотку, а я за ним. Я за ним, я любопытная была в этом плане, любознательная, как сказать правильно. Ну вот, приходим, они лежат все на полу, блестящие зеленым оттенком, до сих пор вижу их лица, блестящие, не шевелятся. Ну, дед им стал давать по ложечке, предупредил, сказал – вот сейчас дам по ложечке, не хватайтесь, ухватитесь – больше не приду. Вот он им дал по ложечке и ушел. Через какое-то время пошел еще по ложечке. И вот так он их отпоил. Но прокислым молоком, свежее молоко нельзя было давать. Но мы выжили, многие из нас в селе выжили за счет того, что коровы были. Молоко прокислое, творог, кислое молоко. Вот за счет этого мы жили тогда. А вообще в селе был страшный голод.
– А вот странно, у них же три взрослых сына. А почему они не могли по-нормальному работать? Вроде кажется, если взрослые сыновья, значит они будут лучше работать.
– Ну вот, видимо, еще в то время, после банды, это ведь не так много лет прошло. И эта психология родительская, психология, она, видимо, остается ведь все-таки. Ведь вот у меня она осталась, психология моей семьи – как нас воспитывали, как нам, так сказать, всё приказывали. Видимо, и там вот это внушение, что нечего туда ходить, и всё. Хотя они были члены колхоза, но, тем не менее, в колхозе они потом-то… у них один брат работал заведующим клубом, один брат уехал, а один брат потом на тракториста выучился. Трактористом работал, на КАМАЗе. Потом КАМАЗы пошли. Нет, не КАМАЗ, а как он назывался? Трактор большой. КА-700. На этом тракторе он работал, ну, потом был хорошим колхозником. А тогда вот почему-то они, так сказать, и жили очень бедно. Очень-очень бедно. Вот. Ну, а потом, ну, помирились все со всеми, и все. Поэтому, слава Богу, все обошлось, и они вот выжили все. Вот такие вот дела.
– Лидия Александровна, а можно ли сказать не только об их семье, а о каком-то ином социальном срезе? Были люди трудного такого происхождения, и как они работали в колхозе? Получается, у них отец был бандит, и поначалу они работали плохо. А вот были какие-то еще проблемные семьи с таким нехорошим происхождением?
– Происхождение было у всех одинаковое, но дело все в том, что вот в нашем селе было две семьи, которые не ходили на выборы. Не ходили на выборы. Они не были членами колхоза, не вступали в колхоз и не ходили на выборы. Вот один из них был племянник моей бабушки. Вот она со своей сестрой, каждые выборы ходили к нему уговаривать, чтобы он шел голосовать. А он – не пойду и всё, я не признаю эти выборы и эту власть я не признаю. Жили тоже очень бедно. Он, правда, уходил в отхожий промысел, куда-то там плотничал где-то. Вторая семья тоже, их звали единоличники, они тоже в колхоз не вступали. У них было трое или четверо детей. И тоже он уходил в отхожий промысел, где-то плотничал, а голосовать не ходили. И вот мы, ребятишки, мы бегали за этими – эти же выборы, эти же были, это же были праздники, это такие праздники, это гармошки, это колокольчики, это везде пляски какие-то, это были праздники. Вот. И мы за всем этим бегали, смотрели, и вот к ним приезжали, и к тем, и к другим приезжали члены избирательной комиссии на лошадях, и стояли около их дома, периодически стучали в дверь и просили проголосовать до 12 ночи. Выборы были до 12 ночи. И в 12 ночи они уезжали. И вот они, две семьи эти, не голосовали. Это вот единственное, что у нас было.
– А вы не знаете, а как они работали во время Великой Отечественной войны? То есть они тоже работали в колхозе или нет? Нет, они, наверное, не работали, я этого точно сказать не могу, но потому что они в колхозе не работали, вот как я помню, они никогда не работали в колхозе, и в колхоз они не вступали. Не работали в колхозе и в колхоз не вступали. Вот их мужья, вот мужчины из их семьи, они уходили в какие-то другие сёла, плотничали где-то там, что-то делали, я не знаю чем… Но один-то плотник точно, а второй я не знаю, но они уезжали, а потом они приезжали, вот на эти средства они жили, видимо. Вот одна из этих женщин лежала в больнице во время выборов, и там тоже не хотела голосовать. А врач, она потом сама рассказывала, врач к ней подошел и говорит, значит так, не проголосуешь, лечить не будем, завтра выписываем. И она голосовала, но она голосовала, как она сама говорила, это я не видела этого и не знаю, но она сама рассказывала, потому что с ее дочкой мы дружили, мы подружки были с ее дочкой. Вот, и в школу вместе ходили, в одну школу. Вот, и она говорила: так мне чего же пришлось делать, я ручки сложила и говорю, ну кладите свою бумажку. Вот они мне положили, и я вот так опустила, а руками не взяла. Вот это вот было. Но это было только две силы. Остальные все, насколько я знаю, все голосовали. И у нас не было никаких бандитов, никого у нас не было. Я говорю, у нас даже драк в селе особых таких не было. Если и были, то это так. Но зато кулачки были.
– Но кулачки, это даже скорее ближе к спорту, наверное.
– Кулачки были село на село, дрались кулачки в праздники. Это было на Крещение, на Рождество и на Масленицу. На Масленицу начинались кулачки со среды, на эти дни там, субботу и воскресение. Но кулачки были до полуночи, кулачки были шиковые, дрались, потом теперь тут какие-то праздничные кулачки организовывают в Тихом Углу, что ли?
– Да, в Тихом углу.
– В Тихом углу, по-моему, да. Но это не кулачки. В 56-м году приехал наряд милиции конный и разогнали все кулачки. С 56-го года кулачки прекратились. А вообще это было зрелище, вот, по обочинам дороги. Вот одно село, второе село, там нас дорога разъединяла. Вот они сходились на этой дороге и гнали то до нашей школы, то до ихней школы. И это было зрелище. Но там дрались. Вот видимо, поэтому и драк никаких не было, потому что на кулачках все вымещали все свои обиды. Становились друг против друга. Мишка, иди сюда, мы с тобой сейчас разберемся!
– А это интересно, то есть на Рождество получается, на Масленицу, то есть на два церковных праздника?
– На три. Рождество, Крещение и Масленицу.
– А вот священники, если они оставались, они говорили что-то против?
– Церкви у нас не было уже, ее разобрали. Поп у нас жил, священник жил в селе, Василий Порфирович, каждую Пасху, при советской власти – я-то советский человек – каждую Пасху он обходил все село, каждый дом. В каждый дом он заходил, пел «Христос Воскрес» и его садили за стол, ему наливались стопку, если где-то у кого что было. Он проводил какие-то беседы там со старшими. Всех нас по головке гладил, мы видим, это благословлял, как теперь я понимаю. Он нас всех проводил по головке, нас трое было у матери. Но обходил каждую Пасху только. В другие праздники не ходил. Но он ходил. А так никогда против кулачек, никогда я не слышала, чтобы он выступал против кулачек. Но кулачки были, до 1956 года были кулачки.
– На самом деле очень интересно, потому что ведь везде свои обычаи. Я узнал, что до 56-го… Это интересно, вот почему такая дата отсечения? Получается, в сталинское время не трогали ничего?
– Нет, не трогали.
– А это началось все при Хрущеве.
– Это при Хрущеве началось, но Хрущев же странный человек. Вообще, странный человек. Дело все в том, что он же со Сталиным, фактически он отомстил Сталину. Но вы знаете, наверное, эту историю. Из-за сына он отомстил. За сына. Вот. А потом вчера я, например, слышала информацию, что он отомстил еще кому-то тоже за сына, и отомстил очень жестоко. Вот. Это первое. Во-вторых, он же начал чё-то всё ломать, чё-то тоже начал коверкать, и то, и другое, и то он увидел… Он ещё увлекающийся человек был. Он же поехал в Америку, увидел кукурузу. Всё! Приехал, долой ему всю пшеницу, весь ячмень, всё. Кукурузу и больше ничего. И эту кукурузу… А она у нас не вызревала тогда ещё. Районированных сортов не было, и она у нас не вызревала. Тогда придумали силосные ямы и всю эту кукурузу в силос и скотину, и кормили скотину силосом. Эти ямы были большие, вот в такую комнату набивались, ходили люди, утаптывали этот силос, и поэтому это было вот… Ну и вот, в общем-то ведь, вот Хрущев стал вот Сталина обвинять, ведь он стал обвинять Сталина, ну а потом присоединились к нему некоторые, но кто к нему присоединился, они как закончили свою жизнь? Берию он тут же стрелял, Маленкова управил в Сибирь, в энергокомпанию, какая-то не компания тогда была, как она называлась, ну, энергосбыт назовём – вот в эту, и он там в автодорожном погиб. Ну, скорее всего, это сделали, этот автодорожный. Он ушел. Всех остальных, кто тут что-то ему возражал, их сразу антипартийной группой признали, и тоже всех уволили туда-сюда поди сюда. Но и как сам Хрущев закончил? Ни с того ни с сего, и ему 14 октября дали по шапке, ему не зря, как писалось в одном стихотворении. Вот, понимаете? И получается, по церковным правилам и по кодексу строителей коммунизма – поступай так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Это написано в Ветхом Завете, это написано в Новом Завете, и это было написано в кодексе строителя коммунизма. Вы его не знаете, но я-то его знаю. А кодекс строителей коммунизма, если его сравнить с Новым и Ветхим Заветом, то это практически полностью вот эти церковные заветы. Всё – не убей, не воруй, не прелюбодействуй, уважай старших. Только в Новом и Старом Завете там написано – уважай отца и матерь свою. Понимаете, какой вопрос? Всё то же самое. Чего его было опорочивать этот кодекс строительства коммунизма? Он призывал именно к тому, к чему призывала церковь. И призывает до сих пор. Поэтому… Ну, Хрущев, ну, он так и закончил, вот так он и закончил свою жизнь. Вот и все. А что сделал Горбачев? И как он закончил свою жизнь? Со.. сдвинувшись с разума. А что сделал Ельцин? Что он, так сказать, убрал Горбачева, сам стал править, и что сделал? Спился окончательно, и всё. Вот результат! Поступайте так, как хотите, поступали с вами. Поэтому я вам рекомендую помнить этот девиз. Поступайте так, как хотите сами поступали. Хотите, чтобы вас уважали – и вы уважа1те людей.
– Спасибо вам большое, Лидия Александровна.
– Ну я вас задержала.
– Да нет, наоборот. Мне было очень интересно с Вами.
– Меня стоит только заставить поговорить. Я правда думала, о чем я вам… Ну что я вам могу рассказать про свое босое детство? В первый класс пошли, в школу пришли, все до одного. Вот четыре класса, все босиком. Ну, кого сейчас застали в школу идти босиком? Мы в дегтянскую школу ходили вот в восьмой, девятый, десятый класс. По колено по грязи! Придём в школу, в резиновых сапогах, у всех на сапогах грязища. Нам уборщица у школы ставила тазы, целое корыто, чтобы мы обмыли сапоги и в школу не тащили грязь. Мы пришли зимой, все заметаны снегом, все тогда шаровары эти пошли, шаровары все обледенели, школа не топится, мы все померзли, все мёрзнем, чернильницы писали, писали же чернилами, это, ручками такими, перьевыми, чернильницы за пазухой. Кто сейчас будет так учиться ходить в школу по этой грязи? И кого заставишь ходить в школу при таких условиях? Я считаю, мы прожили хорошую жизнь. Моё поколение – пусть был голод, пусть был холод, это было всё вначале. Война была, это всё оправдывалось. Но всё-таки с каждым годом мы стали жить лучше. Уже в 54-м, нет, даже в 52-м году, мы уже ели хлеб без примесей, то есть без картошки, без лебеды. А в 47-м году? Мы всё, весь клей, с вишней, с кожурой, с кожурой всё поели. Все листочки, вот такие крошечные листочки, а мы их уже все поели. Бабушка нам ходит – не рвите, хоть вишня будет, да то не будет, ведь вы сейчас всё порвет. А мы есть хотим. Всё, какой-то анис ели, купырь этот ели, этот, конский щавель, мы его ели. Этот воробьиный щавель – мы его весь землёй поели. Понимаете, какой вопрос? И я никогда не слышала, что кто-то роптал, что мы так плохо живём. Вот я не слышала в детстве. А если когда-то что-то говорил, начинали возмущаться… Вот у меня мать, например, говорила, а чего у меня Бог? Он меня оставил вот с тремя детьми. Мужа у меня отнял и все. Дед ей сразу говорил – не гневи Бога. Власть надо уважать. Всякая власть от Бога. Скажите, что он не прав?
– Он прав полностью. И ругать власть за то, что была такая тяжелая война, невозможно.
– Просто невозможно! Сейчас обвиняют опять Сталина в том, что погибло много людей. Но ведь как же вы люди не учитываете, что погибли люди не по вине Сталина? Погибло во время войны только 9 миллионов, а остальные люди – почти 20 миллионов – это же Гитлер уничтожил, вот так вот, походя заходил в село и всех подряд расстреливали, сжигали. Почему-то об этом не говорят, а говорят, вот Сталин виноват во всем. Если бы не Сталин, мы бы эту войну никогда не выиграли, правда! До Жукова… Правда, тогда не только Жуков, тогда и Мерецков, Рокоссовский… Мерецков, Василевский. Это были такие военачальники, какие теперешнему руководству и не снились даже. Вот и всё. Ну ладно.
– Спасибо Вам большое, Лидия Александровна.
– На здоровье! Я рада, что я Вас хоть чем-то утешила.
Архив АНО «Тамбовское библиотечное общество». Аудиозапись.
№ 21
Из воспоминаний И.С. Романцова, 1940 года рождения, уроженца
с. Новочеркутино Добринского района Воронежского области.
2024 г.
– Здравствуйте. Мы продолжаем цикл записи интервью воспоминаний детей войны. Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут?
– Романцов Иван Сергеевич.
– Иван Сергеевич, а когда вы родились?
– Родился я 3 января 1940 года.
– И где?
– Село Новочеркутино, Добринский район Воронежской области.
– Расскажите, пожалуйста, о составе вашей семьи на момент начала Великой Отечественной.
– На начало войны у нас было… Я родился в сороковом году, мама моя с восьмого года, отец с четырнадцатого года у меня. Вот. Но потом родилась сестра в сорок втором году. Родился брат в 47-м году, брат родился в 49-м, и ещё сестра в 52-м году родилась. У нас всего было в семье пятеро детей.
– А чем занимались ваши родители на начало Великой Отечественной?
– На начало Великой Отечественной работали в колхозе. Отец работал в штате, конником. А мать, полевая рабочая, на свеклу. Просо пололи, свеклу пололи, обрабатывали. А мы помогали им делать. Дети вот пололи свеклу.
– А что потом стало с вашим отцом?
– Отец у меня во время войны, их забрали, и он не попал на войну, он попал в Куйбышев, слесарем на авиационный завод, там делали самолеты. И вот он работал заточником – инструменты затачивал, я не знаю, что он там делал. Я помню, он оттуда, когда приезжал в отпуске, на крыше ездил на поезде оттуда, приезжал. Привозил ложки алюминиевые. Там они делали… Самолёт-то алюминий, там всё алюминиевое, привозил ложки. Это я вот помню. И вот они там были вдвоём, как они попали. Один… Тот так и остался там, а отец после войны… После войны – война закончилась, и он приехал оттуда с завода, его отпустили. Приехал сюда, опять работал, работать конником.
– А он не рассказывал об условиях труда на авиационном заводе? Сколько они работали?
– Работали они по 12-13 часов на заводе. Они там и жили, и питались, и, в общем, всё на заводе у них было.
– А выходные часто были? Раз в неделю или как?
– Выходные я даже не спрашивал. Ну, домой он приезжал… я помню, когда он приезжал. И рассказывал, что ехал, он говорит, поезда какие-то шли, что на крыше или на товарном, в товарном поезде. Я сам когда учился, вот сам в этом, в Добринке, я сам ездил, потому что денег не было. И нас… ездил поездом на крыше. 7 километров до станции доходил, и там ехать перегон один еще – на крыше ездил.
– У вас один перегон, а он прям с Саратова, получается, добирался, с Куйбышева.
– Забирался на крышу, все время ездил. Вот такие дела были. И вот такие дела были. И вот я помню, даже когда учился в Добринке, я уже был в девятом классе, приехал, зимние каникулы были, приехал домой, все нормально, приезжай туда, мне в школу не пускали. Почему? Заплатить надо было за обучение. Вернули домой, ехали, чтобы родители оплатили. Вот я не знаю, отец чего там водил. У нас были и куры, и все. Денег как-то нашел, заплатили, меня пустили тогда. За обучение… Раньше было образование семь классов всего. Семилетки. А уже дальше…
– Платно.
– Платное всё. И каждый год сдавали. Начиная с четвёртого класса сдавали экзамены. Каждый год.
– А расскажите, как изменилась жизнь в деревне после начала Великой Отечественной? Может быть, мама рассказывала, стала ли она больше работать в деревне? Увеличивались ли требования по трудодням к ней?
– Трудодни, бывали там такие же у них, полевые рабочие, они… мало им платили. Увеличивали, свеклу давали, начиная с гектара, там кто помоложе, а им уже по три гектара давали свеклы, три гектара свеклы обрабатывали. И вот мы, нас, дети, нам искупаться бы, а нас брали туда, обрабатывать свеклу.
– Это уже, получается, в послевоенное время?
– Ну, послевоенное, да. После войны обрабатывали свеклу эту, ездили. А дома у нас отец сеял просо, и вот это просо мы на коленах ползали, прорывали, чтобы не было сорняка.
– А что-нибудь ещё у вас сеяли, кроме проса, огурцы?
– В основном картошка была, огурцы, помидоры, всё было. Но я помню, даже когда лебеда было, лебеду ели. Это было уже в 1947 году. Голодный год считался. И вот даже крапиву ели. Из крапивы борщ варили, из лебеды, кто помнит. А по весне, маленькие, когда были ещё, после войны, мы ходили по огородам – сами, ребятишки, собирали картофель гнилой. Гнилой собирали и из него потом что-то, крахмал какой-то делали, что-то, в общем, какие-то лепёшки делали. Мать делала.
– А с полей неубранные колосья убрали, брали для себя?
– Убирали. Были случаи – сажали за это. Если ты собрал и не отдал их, а себе взял.
– Даже после уборки?
– Да. Даже были случаи, сажали. У нас милиционер был один. Там один пришёл с войны, он был сторожем. Приехал и расстрелял этого сторожа, участника войны. Он был участник войны, но милиционер, я не знаю, почему они… Он охранял лошадей там. И он застрелил его, милиционер. Участник войны. С одной ногой был. Я помню.
– И милиционеру ничего не было? Он его просто без суда и следствия застрелил?
– Да. Потом я не помню, как посадили его или нет, я не помню, что с ним было. Но это я помню. Он с одной ногой, и у него было шестеро детей, он пришел. И жили они, потом после, я помню, мы ходили – когда я в школу ходил, мимо их дома. У них ребятишки тоже маленькие были. И вот они жили бедно-бедно.
– А были случаи голодных смертей после войны в вашем селе?
– Я таких не помню, но голодать… очень много было. Даже был у нас один случай такой. Там, как вам сказать… Хлеб пекли каждый дома. А он был участник войны, пришел, ну, голодный он был. И он наелся этого хлеба горячего. И у него что-то получилось, он умер. Переел этого горячего хлеба. Что-то у него с желудком произошло. И говорят, что умер от горячего хлеба.
– А он давно, значит, не ел перед этим?
– Да, давно не ел.
– Так и бывает. Давно, когда не ешь, после этого наешься, сытно, не выдержит организм.
– И вот он горячего хлеба наелся и умер. Были случаи, когда я в армии служил уже, на Новый год, отмечали Новый год, пельмени продали. И у нас офицер, капитан-лейтенант, подавился пельменем и его не могли спасти, умер. Пельменем подавился.
– Да, это бывает так… такая смерть. Расскажите, а как в вашем селе изменилось материальное положение людей в целом с начала войны? Вот допустим, увеличилось ли число скота дома или, наоборот, уменьшалось? Старались ли люди держаться за скотину, чтобы, допустим, корова давала молоко или резали её на мясо сразу?
– Нет. Коровы были… У нас село очень большое. Три стада было у нас, было. Две церкви было в селе. Две церкви было. И… Пастуха нанимали. Ну, а после, когда мы уже большие, уже пастухов таких не было, мы сами коров пасли. Вот у нас было коровы, овцы были. И мы… вот 4 овцы и корова. Это значит 2 дня почти. За корову 1 день и за 4 овцы 1 день. Вот 2 дня пасли. По 2-3 человека вот стада пасли.
– А эти тогда были чисто колхозные или люди сами?
– Нет, это частные. А колхозные были! У нас колхозов было, сейчас скажу, один, два, три, четыре колхоза было. Во время войны! И в каждом колхозе были свиньи, эти, куры были, овцы были, коровы и лошади были. Это уже колхозные были. Я даже пас до седьмого класса. Там тетя Настя была, она постоянный пастух. Свиней пасли мы. Я с ней пас. И там получали, нам давали трудодни какие-то или чего – я не знаю. Но факт в том, что трудодни эти были, я не помню, когда их отменили, но я в 59-м году ушел в армию; и отец мне пишет, что я на твои трудодни все оформил, все получил, все, пшеницу, он говорит, я получил. Так что, когда их отменили, это уже, я не знаю когда. Я ж в 59-м году уходил в армию.
– А что ещё входило в ваши, скажем так, обязанности, когда вы были ребёнком, подростком? Что вы ещё делали, кроме того, что пасли?
– Пас лошадей, летом. Мы там два конюха, они отцы наши конюхами были. А мы в ночной лошадей гоняли. Гоняли лошадей за 3-4 километра. Там был болото такое, а болота вокруг… и вот мы, лошади, вот там вокруг этого… А потом их пригоняли сюда на день, а ночью… На день их сюда пригоняли, лошади работали днём, а на ночь их – ночью никто не работал – мы их гнали и пошли в поле. А днём работали. Я даже на лошадях, когда работал, зерно от комбайна отвозил. А комбайны были прицепные, трактор возил. А мы на лошадях: фура такая, две лошади. Цепляли, возили, я зерно от комбайна возил. Работал на этом, на комбайне, на соломокопнителе вдвоем мы с другом.
– Это еще подростки вы были?
– Это подростки, в школе учился. Уже в школе учился и работал на комбайне, на соломокопнителе он назывался. И вот чтоб соломы было больше, копна была большая, мы там расправляли ее, а потом педаль была, нажимали на педаль, как наберется, и копна эта оставалась. А после копны подвозили, скирды делали. Мужчины работали, большие, взрослые, они там расправляли. А мы на лошадях подвозили эти копны к скирду.
– А со скольких лет, получается, вы так работали?
– Работу я начал… Наверное, лет с десяти, наверное.
– Уже начали работать? Уже получали трудодни тоже?
– Я не помню, сколько нам давали, но когда водителем я стал, там у нас уже была ставка три трудодня.
– Получается, вы с 10 лет, по сути, с третьего класса, наверное, уже работали?
– Да. Но только работали днём. После школы, когда каникулы. Закончится, экзамены сдадим, и вот работали.
– Расскажите, а как вы учились в школе вообще? Как удавалось сочетать и труд, и учебу? Ведь понятно, что вроде бы работаете, да, когда закончится уже учеба летом, но все равно это тяжело, все равно людям хочется отдохнуть. В ваше время не было такого, что кто-то хотел откосить от работы?
– Нет, у нас такого не было. И даже мы находили время, у нас там был сад, в этом саду – Охотников сад он назывался – в этом саду озеро было большое такое, там и караси ловились. Мы зимой даже, зимой, там лёд когда замерзал, после школы зимой, коньки надевали на ноги, на валенки. Прикручивали к валенкам. И в хоккей играли, делали клюшки деревянные у нас были. И даже там в хоккей играли. Это я помню, во Охотниковом саду.
– А коньки сами делали? Или покупали?
– Да, сами делали, все сами делали. В городки играли, очень было в городки часто играли. В городки и в деревне, в селе играли. Взрослые уже играли в городки. А летом в лапту играли. Я когда в школу пошел в первый класс, в селе было два класса первых. В селе было два класса первых. В каждом классе по 30 человек. А вот я два года назад в это село приехал и спрашиваю, я говорю: а сколько же у вас первоклассников? Он говорит – два человека у нас стало в селе, в этом. Понятно? И школу, двухэтажная школа, закрыли ее совсем. И этих двух человек возят в соседнее село, вот в Пушкино, за три километра. Автобусом возят туда их. А с Пушкина привозят сюда детей. В этой школе сделали детсад. Собирают этих детей и привозят в наше село, в эту школу. Которая была семилетней школой. Сейчас там нет ничего, детсад. В этом селе памятник стоит. Вот это сделали. Там дядя похоронен. Это… не похоронен, а погиб. Был танкистом во время войны, и вот увековеченный на этом памятнике с нашего села. Это мамин брат. У нашей мамы, было 9 человек их. 9 человек их было. А отцу, вот он родился в 14-м году, но он своих родителей не помнит. Они умерли у него. В три года он остался сиротой, отец. У мамы их было девять человек, а в папиной семье было шесть человек. Два брата и четыре сестры. А в маминой было три брата и шесть сестер. А нас вот, сейчас я говорю, нас вот было пять человек. Вот в 47-м году, когда было это… почему такой он умер, он, брат. Ну, голод был в 47-м году. Его не могли спасти. Что с ним? Какая болезнь у него была, я не знаю, у брата. А брат у меня сейчас, который вот в Домодедово, в сорок девятом, в сорок девятом, да, он до трёх, три года он не мог ходить. Не ходил. Потому что голод был, и всё время он ползал, это я помню. И ползал не на четвереньках, а вот на заднице. И вот через три года он пошел. А сейчас вырос под два метра ростом. Брат у меня сорок девятого года. Вот ему семьдесят пять сравнялось в марте месяце, в Москве, в Домодедово живет.
– А как в то время, в военное время, в послевоенное время, относились к центральной власти, к властям в колхозах? Ведь когда людям живется тяжело, часто ругают власть. Было ли такое в ваше время?
– Никогда не было.
– Не было?
– Не было, не ругали. И бригадир приходил и назначал… Вот, председатель, я не знаю, жил там председатель, но к нам всегда приходил бригадир. Он на лошади ездил. У него тачанка была на двух колесах. И он приезжал и говорил: ты – матери моей – ты сегодня пойдешь в колхоз помидоры сажать. А около речки у нас там было разбито и вот там сажали огурцы и помидоры, и арбузы сажали там даже, и сажали и поливали их, пололи тоже. И вот назначал: ты сегодня пойдешь туда, а уборочник когда скажет – ты приходи сегодня будешь на току там зерно ворошить или чего там. Бригадир приезжал все время. По селу проедет, по домам прямо ездил и назначал работу. А вот кто штатный… отец, отец, это, утром встает и пошел на конюшню. Там чистят, корм дают. Они как штатные рабочие, каждый день без выходных. Никаких выходных не было у них.
– Никаких выходных?
– И субботы, и праздники, и все всегда. Все работали в колхозе. Никаких выходных не было. И когда уборочная, а уборочная вообще с раннего утра и до позднего уборочная был.
– А это только штатные были без выходных? Может быть, другие люди справляли праздники в колхозе?
– А другие люди… Тебе надо вот три гектара обработать свеклы. И как ты будешь отдыхать, когда у тебя там не полота свекла? Её прополоть надо, раздёргать, чтобы одна там осталась свекла. Сейчас вот я не пойму, какая техника. А тогда всё было по-другому.
– И вообще не праздновали?
– Праздники были. В основном праздники были Пасхи, Троица, вот у нас был еще Козьмы Демьяна праздник был, такие престольные какие-то праздники были. И церковь когда сломали, а церковь сломали во время войны. У нас был коммунист один там. И вот он… Церковь когда ломали, но её ломали, взрывали её. Там они ничего не взяли с ней. Там глыбы такие, она… Не знаю.
– Во время войны потратили на эту взрывчатку?
– Да. Церковь взорвали.
– А население как отнеслось?
– Да как? Население… Ну, не бастовали, ничего. Возмутились. И этот священник был, Павел Наумович, я помню. Он потом… Были там женщины. И они к нему ходили домой. Перед праздником, вот Пасха, Рождество. К нему ходили, там молились. У самого, прямо, священника этого дома. Павел Наумович, я помню, его звать.
– Понятно. А как относились к немцам? Вот как вам, когда вы были ребёнком?
– К немцам я помню, знаете, как? У нас по селу, через наше село, прогоняли немцев. И гнали их почему-то пешком. Сюда, говорили, через наше село, на Тамбов сюда. У нас тамбовский грейдер там проходил недалеко. И вот их на грейдер и на Тамбов загнали пешком. Это я помню.
– А это какой примерно был год?
– Где-то был в 44-м уже году. Я помню. Было такое дело. Они даже останавливались у нас. Охотников сад. А там было двухэтажное здание такое. Я не знаю, что в этом здании было, почему оно двухэтажное было у нас.
– Может, поместье бывшее?
– Да, помещик был или чего-то. В этом здании их останавливали. И потом после мы ходили, там подвалы были, и находили там снаряды. Может, наш оставили, или кто. Это я помню, был такой случай. В этом здании потом организовали курятник, а в подвале хранил колхоз картофель семенной.
– А вы не вступали в контакт с немцами, когда их гнали? Ну может быть, или кидали что-то, пытались обменять что-то?
– Нет, ничего нет. Там они же с охраной шли, и по бокам собаки были у них. Их пешком угнали почему-то сюда. Через тамбовский грейдер.
– А их много было, немцев? Около сотни – больше, меньше?
– Около сотни было. И потом их куда, я не знаю, куда…
– Ну, наверное, к нам на Раду.
– На Раду, сюда на Раду. Потом я, когда сюда приехал, в Тамбов уже распределился. Я был… потребсоюз распределил. Нам давали машины военные. И говорят, ехайте в совхоз Ленина, в Кирсановский район. И вот мы там получали машину, я от военных принимал машину. И говорили, что это колхозом немцы обрабатывали. В Кирсановском районе. Там всё было… порядок у них. И вот я узнал, что в Кирсановском районе были немцы, обрабатывали колхоз, ихний был.
– Понятно. Интересно, а были еще какие-то случаи контакта с немцами? Вот, один раз прогнали пленных. Может быть, еще как-то прогоняли? Может быть, у вас беженцы были в селе?
– Беженцы были.
– Были?
– Да.
– А как к ним относились?
– Да нормально, так же они работали.
– Так же, они не пытались отлынивать от работы?
– Нет, так же работали.
– А кем они были, эти беженцы? Русские, евреи, белорусы? Не помните?
– Белорус был, я помню, Стош был. Он потом на тракториста выучился и работал на тракторе. У нас трактора были универсалы, ХТЗ были тракторы. Я помню, у нас загорелась конюшня. Это уже после войны, уже 50-е годы. При Сталине было. Загорелась конюшня, трактор там стоял. И вот у нас такой, его прозвали Тарзан, Юрка. Он этот трактор, ХТЗ, колесный, задние колеса большие, с такими зубцами, а передние небольшие. И вот он не заводился, он его на скорость поставил, рукояткой 50 метров оттащил от этого, чтобы он не сгорел. Тарзан его… Почему Тарзан его прозвали так?
– Наверное, тоже сильный был.
– Сильный был, да. Рукояткой крутил, и он двигался, трактор.
– Это тяжело было, действительно тяжело.
– Да.
– А может быть у вас в деревне в это время в селе строились укрепления, ведь оно относительно недалеко было от линии фронта?
– В Воронеже нет, у нас никаких окопов, ничего, у нас ничего не делали.
– А солдаты наши были, располагались когда-нибудь на постой?
– Нет, у нас не было. Потому что у нас железная дорога 7 километров от нас, а тут все дороги были грунтовые, нигде ничего не было.
– Там да, и смысла нет.
– Тут не было у нас ничего такого. Река у нас плавится, она не судоходная. Пескарей-то там ловили мы, я помню.
– А ловили еще во время войны?
– Во время войны ловили, и… но сейчас там, я не знаю, есть она, река-то или нет. Но раньше она была, там были плотины, мельницы были водяные. Сейчас… запруд нигде нет.
– А что вы еще кушали во время войны, в послевоенное время? Получается, вы добывали, вы ловили пескарей, вы собирали иногда, ну вот когда получалось, картошку там гнилую, иногда колосья на полях.
– Да, да, да
– А вот может быть у вас разбивались больше, в огородах старались больше всего посадить в это время?
– В огородах раньше сажали все, все у нас было. По 45 соток огороды были у нас. И в огородах были и вишни все свои, фрукты. А потом, когда после войны, начали вырубать сады.
– Налоги?
– Налоги. На каждое дерево, на каждый куст смородины, на каждую вишню, чтобы поменьше было, их приходили, описывали. И на каждое всё платили налог. А налог платить: и яйца сдать, и масло, и шерсть. Я вот не пойму, почему шерсть, если нету овец, а всё равно шерсть надо сдавать. Налог был такой.
– А откуда тогда брали её? Покупали?
– Не знаю. Покупали как-то, где-то как-то добывали, не знаю как. Это я помню такое. И аналог, вот яйца надо было сдавать, молоко сдавали. Молоко и себе оставалось. Потому что я помню, мы, а чё, придёшь вот, бегаешь-бегаешь, придёшь, а кушать чё надо? Вон молочка возьми. Возьмёшь молочка, хлебушку туда покроешь вот так, и с хлебом. Мать пекла хлеб сама дома.
– А по грибы и по ягоды ходили?
– А у нас там нет. Грибы собирали, опята собирали на лугах. Луговые были только. А так нет.
– А может быть, вы во время войны встречали, видели, самолёты пролетали немецкие или наши? Не было?
– Самолётов там летало много.
– А немцы не бомбили село?
– Нет, наше село не бомбили. Не было у нас. Мимо пролетали. У нас там бомбить-то нечего было, все уже было.
– Ну да. А может быть, вы помните, как встретили победу в вашем селе в мае 45-го?
– Я особо не помню.
– А может, мама рассказывала, как нас праздновали? Какие были настроения в связи с победой? То есть, может быть, люди были очень рады или они переживали, вспоминая все потери?
– Нет, люди были рады победе, потому что возвращались домой с фронта, ждали людей. Все, когда возвращались домой, ждали их. Так что всё… это было радостное время. А когда у нас родилась вот сестрёнка маленькая в 52-м году, за неё уже получили родители деньги какие-то. И отец купил приёмник. Этот приёмник, я не знаю, а вот сейчас такие были батареи, вот как сейчас аккумулятор, например, на машине, такие батареи были. Две батареи были. И когда Сталин умер, у нас, как вам сказать, на нашем конце только один приёмник был. Все собрались к нам, когда Сталин умер в 1953 году. Пришли все соседи, все слушали приёмник. И я, когда первая моя поездка на машине, я на ней начал возить скоту со спиртзаводов – там у нас три спиртзавода – барду от отходов возил. А по селу едешь, все просят: дай ведерко, дай ведерко, давали деньги мне. Я первый раз приехал домой и привез, там совхоз от Рады у нас был, свинооткормочный совхоз, там магазин всегда был очень богатый. Купил тарелки такие глубокие, шесть штук привез. Матерь говорит, мам, вот тарелки. Где ты денег взял? У нас денег нет. Я говорю: продал я эту барду и вот привез тарелки. Такой был случай.
– Спасибо вам большое за такое содержательное интервью.
– Барду отвозил по свинарникам. Уже все откормочные были. Приедешь, спросишь там бригадира, куда сливать. Сливай сюда, в эту емкость, по емкости сольешь. И опять по кругу пошел. На этом спиртзаводе нету – пошел на другой, на третий. Три спиртзавода было вокруг. А сейчас вот, наверное, ни одного, говорят.
– Сейчас, наверное, ни одного, да. Они укрупнились. Спасибо вам большое за такое замечательное интервью.
– Так что вот такие дела.
Архив АНО «Тамбовское библиотечное общество». Аудиозапись.
№ 22
Из воспоминаний Н.К. Андреевой, 1941 года рождения, уроженки с. Раевка Красивского района.
2024 г.
– Здравствуйте. Мы продолжаем цикл интервью с воспоминаниями детей войны. Здравствуйте!
– Здравствуйте.
– Представьтесь, пожалуйста.
– Андреева Надежда Кузьмична.
– А девичья фамилия?
– У нас с мужем одинаковые фамилии, расписывались – у нас одинаковые. И он Андреев, и я Андреева.
– А какого вы года рождения?
– Сорок первого. Первого марта сорок первого года.
– Вы здесь родились?
– Нет, нет, мы переехали в Раевки.
– А в Раевке вы жили, наверно, как и все колхозники?
– Ну как, в колхоз работали. Мать была, мы же небольшие были, нас четыре девки было. Мать идет на коров доить, а мы дома. Наварят что-то есть. Едят. А я ленивая была, лодырь. Сяду к ней, кричу. А мать придёт. Ты о чём кричишь? Девчонки, о чём Надя кричит? Мы ей лапши не налей. Ну вот так и проходили.
– Потом ходили в школу?
– До 7 классов мы ходили. Ну, мы больше никуда не обращались, никуда. Сейчас в это время можно учиться, а там всё. В Раевке до четырёх, а потом в Сатино ходили. Семь лет проходили и всё. Пошли свеклу полоть. Все детство наше. А потом мне двадцать один год стало, дед из армии пришёл и вышла замуж.
– Расскажите, а как? Как война застала вашу семью? Кого взяли на войну?
– У нас взяли отца. Мы только родились 1 марта, и его взяли. Я двойняшка. Его взяли. Я отца не знаю. И дядя у нас уходил. А так отцов и дядев много уходило на войну. И все убиты. Живых не было.
– Как во время войны вы жили?
– Жили. Ну что, матери давали пенсии, это, не пенсии, а как детей у нее много – 12 рублей. Крову ели, лебеду? Вот. Ели лук, ходили в Черновку, в лес, брали лебеду, потом созреет – на зерна брали, мололи. А я любил лебёдный хлеб, прям вкусный. Мы отсюда туда…. И мама даже мучицы туда подсыпет, я уважала лебёдный хлеб. Потом у нас была матерная тётка, незамужняя. Она жила вот, например, как сейчас этому, тогда Красивский район был. Вот она в Красильке прислуживала у этого, у Яковлева.
– А он был кем?
– Ну вот, как сейчас…
– Председателем?
– Да, ну… Заведовал этой… В районе этим, начальником, как называется…
– Ну, первый секретарь райкома…
– Да-да-да, ну вот так… Она там прислуживала… Он там даст ей что-нибудь: «отнеси своим родственникам». Она кое-что нам: мучки принесёт, жмышку… Мать сварит нам кулеш жмыховый… Соль в жмыху… Вот… Ну и вот так мы и жили… Ну, не сказать, что мы голодовали. У нас дед был председатель. Мой дед председатель был. Вот, мы всё-таки поддерживались. Так резко голода мы не видали. И это… А потом дядя бригадиром стал. Вот, тоже нас поддерживал. Пойдём, хоть работаем, ну, хоть рожь нам дадут, и что-нибудь привезть, траву какую-нибудь. Рвали траву руками кормить коров. У нас коровы были, две коровы. Мы молоко помногу ели. Мать нам нальет молока и говорит – девки, хлебать молочко. Потом говорит, ешь молочка побольше, а хлеба побольше. Хлеба мало было. Ну мы молоком это питались. Все это у нас, масло, творог, это все было у нас.
– А куры были?
– Куры были и овцы были. Мясо. А в избе холодно было. Мясо, мать, ну, что там, кастрюлю, кадушку, на печку поставит. Чтоб она не замерзало резко. В избе холодно было.
– В избе было…
– Дома мороз, холодно, да. На печке мы все сидим, она нам там мясо отщипнет, сырое мясо порежет, мы съедим. Ну и так вот выросли здоровые девки. И все повышли замуж. Сестра моя двойняшка умерла, как год-два. Потом Борис из армии пришел, я вышла за него в замуж. Там наш местный, недалеко, через четыре двора. Ну и вот. Жила со свекровью. Жила со свекровью хорошо. Потом начала я… была дояркой. Лет 14 дояркой была. Передовая. Любила хорошо работать. Чтобы… тогда знаешь, как спрашивали? В Раевке нас считали хорошими. Всю власть туда показывать приезжали. Чтобы коровки были чистые. По проходу идёшь в тапочках, хоть иди, нет вряд ли. Всё очень хорошо. И вот главный врач, ну, наш, совхоза, и говорит: Андреева, надо мне узнать, как у тебя тут. Я – хорошо, чистые коровки все. Ничего с ними, ничего. Я всё выполняла – что скажут, я выполняла. Даже стёкла нас заставляли в коровнике мыть – мы мыли. Потом, однажды, я прям только вымыла на крыльце пол, и он идёт к нам, врач. Ну, и поглядел: ну, вот правильно, хорошо. И дом вроде у меня чистый. Ну, со свекровью жила очень хорошо. Потом меня выбрали бригадиром. Я 20 лет бригадиром работала. И на мне и бригадир, и управляющий – всё на мне было. Вот, осталось мало, а коров было двести с чем-то голов, и там молодняк у меня был, и телились коровы, всё! Я управлялась, всё. Меня хвалили, власть считала мне хорошей бригадиркой.
– А скажите, как во время войны, ну может быть, в деревне, помогали друг друга в Раевке люди? Как был вообще общественный настрой? Может быть, были какие-то случаи недовольства власти? Или наоборот, люди друг другу помогали, люди понимали, что война, надо ее вытерпеть?
– Ой, не было, недовольства не было, чтобы вот на тебя нападали, там что-нибудь. Всё хорошо было, сложилось. Ходили мы на свёклу, всем классом, ходили свёклу полоть, тогда чай-то не с чем пить, денег не было покупать. Стали нам за свеклу сахар давать. Мы прям по пол-литровой банке выпивали чай, не пили его никогда. Мы увидали только сахар, то начали пить сахар. Все ходили мы, молодые, там нас человек семь, девочек, пололи свеклы, а там вот взрослые матери наши половили. Ходили матери, коров она доила. Ходили ей помогать. Вот ей побольше, Нинка у нас постарше, Нюрка. Они ей ходили помогать. Вот. Ну, воду черпали. Вот так. Этим. Журавлем мы называли. Опускали ведро и подымали. Вот так. Ну, колодцы были близко. А потом замуж я вышел, сколько-то я там пожила, провели водопровод. Вот. Прямо это хорошо стало, прямо у двора, красота.
– Расскажите, а как часто приходили свести с фронта? Может быть в деревне появлялся почтальон?
– Ну, почтальон у нас был. Ходил он, всё разносил. Ну, к нашему… пришли –без вести пропал. Ну, а так у нас там человек четыре, может быть, пришли. Один из плена, дедов этот, дядя. Я прям помню, он как на машине ехал, его везли сюда домой. Из плен пришли. Два из плена пришли. Один, он бригадиром работал, Тимофей Павлович, он меня так уважал, я никогда на работу не отказывалась. Отпрошусь, и говорят: можно, Тимофей Павлович, я останусь постирать? А он говорит – оставайся. А потом ходит, ходит, никого не найдет: Надька, иди опять это, завтра лучше останься. Я любила работу, я власти подчинялась. Я себя вела… и меня поэтому поддерживали, я руководила всем народом.
– Расскажите, а были ли пленные немцы, может быть, в Раевке?
– Нет, нету, не было. Таких не было у нас. У нас оно небольшое село, а два колхоза было – и Ленина… Борис, второй – Россия, по-моему. Две улицы, а у колхозов были названия разные! А потом уже, когда нас соединили с Сатино, вот тут уж нас всех объединили, тут Сатинский был колхоз… Мы работали все в колхозе. Мы ходили косить косами. И потом согребали горох граблями. Всё, и на сортировку ходили, в Сатино нас возили на работу. Мы вот так вот встанем, поставим что-нибудь под ноги, и вот одна подаёт, одна туда сыпется в эту сортировку. И вот целый день так работали.
– Скажите, а во время войны, может быть, ваш старший… Может быть, вы старше двойняшки в семье были?
– Нет, у меня сестра Нюрка была, она с 32-го, а мы с 41-го. Потом за Нюркой Нинка с 38-го, сестра. Это живая сестра, она в Пензе живет.
– А они работали в колхозах?
– А где же, где же, в колхозах! И они тут же вышли замуж в Раевке, а одна вышла на Морозке, километра 4 от нас всего.
– А как от них требовали работать в колхозе? Вот от старшей, 32-го года – она работала как взрослая?
– Да. И мы так же работали, молодые от нас такую же работу требовали, как и от взрослых.
– А с какого возраста?
– Ну вот мы как окончили 7 классов, вот с 14 года я помню, мы даже ночью ходили, скирдовать солому. Подойдет, накосит, и мы ходили урожай убирать тогда, скирдовали тогда вручную, и мы ходили ночью, тогда ночью ходили, и мы ночью ходили, молодые, я ночью, я прям помню. И сено мы скирдовали, большие эти скирды были, большие.
– Расскажите, а что входило в ваши, скажем так, каждодневные обязанности в послевоенное время? Ну, что нужно было? За скотину убрать, нужно было в колхоз идти?
– Ну сразу мы в школу ходили, вот, до четырнадцати годов. А потом, как же, и мы хоть и в школу ходили, а мать уйдет на работу. У нас и корова была, и овцы были, и козы были. Вот, а мы ухаживали тоже, за ними, помогали матери. Всё это мы делали.
– А в школу нравилось тогда ходить? В школу нравилось ходить, да?
– Да придём в школу-то. А у меня ещё подружка была, Катя. Она… Сядем на первую партию. А учитель такой был, Константин Семенович. Он… После войны… Какой-то он был… Ну, что это было… И вот он: Вот они, две подружки, сидят, собрались замуж, думать, что им купить! Это учитель нам так говорил. Ну, нравилось ходить. Я училась неплохо. Я не скажу, что я отличница была. Ну, я училась по математике. Я хорошо училась. Умела всё по математике. А по-русскому, вот, я ошибки делала. Писала когда. А вот дед у меня пишет – ни одной ошибки не сделал. И вот дочь у меня в него, в его уродилась. Она учительница, ни одной ошибки не сделает! Это я говорю – она не в меня (смеется). Я, бывает, налеплю эту ошибку (смеется).
– Расскажите, а какое было настроение в деревне? Вот, может быть, были какие-то воры в деревне? Были какие-то асоциальные элементы?
– Ну, воры какие? Воровали, овец воровали, кур воровали, это было.
– А зачем, просто есть?
– Есть, по погребам лазили, погреба с соленьями, вареньями.
– Милиция ловила их?
– Да вот что-то я сейчас и не помню. Наверное, даже не заявляли. Это как-то положено. Уворуют вроде, унесли и все. Ну вот так вот, чтобы сажать в тюрьму – не было такого. Да.
– А может быть, были в деревне какие-то, не знаю… Особенных каких-то бандитских группировок не было?
– Нет, нет, нет. У нас мирность была. У нас все хорошо было. У нас все работали. Знаешь, прям хорошо всегда яркие люди работали. Все заработали хорошие пенсии. И на нас… Вот ее муж был за техником, а я бригадиром. И на нас говорят: вы им, всем Раевским, хорошие пенсии назначили. Ну мы как можем назначить? Мы что – что они заработали, мы напишем и сдаем в бухгалтерию. Вот. Они говорят на нас, в Филатовском: вы Раевским всем заработали хорошие пенсии. У нас они все доярками работали, они все по тридцать с лишним получали, эти вот люди получали. Сейчас вот какие живые остались, они по тридцать с лишним… Я сама почти сорока уже получила.
– Расскажите, а как… может быть, были какие-то работы для обороны в вашем селе? Может быть строились какие-то укреплённые линии? Или нет? Потому что далеко?
– У нас нет. Не было этого ничего. Не было укреплённых. Мы отдалённое село от Инжавино. Мы ездили в Инжавино на базар куда-нибудь, что по делам, на быках. Быков запрягали и ездили. А я любила, еще маленькая: прицеплюсь. Ну что, не берут, а я прицеплюсь и еду. Мне нравится на быках ехать.
– Расскажите, а как восприняли окончание войны в деревне? Может быть, вы помните эмоции старшей сестры?
– Как? Что война кончилась?
– Да, что война кончилась.
– Ну, все говорят: кончилась, кончилась! У нас баб много было, всех мужиков забрали. А таких два, что ли, три мужика. Они больные были, их не брали. Они гуляли и плясали с ним, с инвалидом. Там гулянье было, колхоз давала, ну там что-нибудь, ну все бедные жили, ну муки даст, там что-нибудь еще выделит, винца сколько-нибудь даст, вот. И гуляли эти наши матеря и три старика.
– А стало жить лучше после окончания войны?
– Ну лучше, ну конечно, мы стали больше, это… стали как-то богаче, богаче стали. Я родила первого ребёнка, мне за декрет заплатили 80 трудодней и 100 рублей. Это первого я родила. А потом уж к нам соединились, когда с совхозом, мы тут уж богаче намного стали жить. К нам коровы, мы работаем, стали денег давать. Я вторую дочерь родила, а у меня одна осталась, сын помер. И это… стали хорошо нам давать, и у нас такие начальники – Иван Семенович Скляров был директором, Клавдия Степановна был парторгом. Хорошие все начальники были. И они нас уважали, и мы их любили.
– Расскажите, как вообще ваша семья, вот получается всех, всех смогли вырастить. Все было хорошо после войны.
– Да, мы все выросли, девочки все наши выросли. Мои сестры, да, и все. И мать, 75 годов, она только померла. 75 годов ей было. Тогда ни разу ее не свозили в больницу. Скорой тогда у нас не было. Сейчас он чуть что, и скорую вызывают теперь. А это раза три или четыре у нее приступ. Инфаркт. Ну, мы не понимали, что с ней. Она полежит и жила одна, но она от меня недалеко, через 4 дома. А это в какие годы уже было? В 80-х уже, да. В 80-х. Вот она это… Ну, она к нам придет, свекровь моя была – я со свекровью всю жизнь жила и довольна ей. И благодарила. Я вольница была. Я до 60 лет картошкой чистила со свекровью.
– А получается, то есть, врача у вас не было в деревне?
– Нет, нет. В Сатино мы ездили, у нас даже медсестры не было.
– Не приезжала даже?
– Нет. Вот моя мать заболела, поехали сюда на Филатовский, Юлия Ивановна была. Поехали, привезли ее, она обслушала и говорит – у нее сердце прям все-все изношено. Да как же оно будет не изношено? Жила с нами четверыми, а мы не ходили плохо. У нас и валенки были, и польты были. Ей дадут телка там, на колхозе за работу, и тут корова телится. Мы их вырастим, она продаст – польты нам купит. Валенки – свои овцы были, она отдаст валять. Мы не ходили плохо, чтобы на нас. И она на каждом празднике нам шила платья все новые. Сейчас не разбирают ведь, а тогда на Пасху ходить, там, Покров. Покров – наш престольный праздник. К нам приезжают изо всех сел гости на Покров.
– Расскажите, пожалуйста, а как во время войны была видна разница между теми, у кого забрали мужей и отцов на фронт, и теми– вы сказали – несколько человек остались.
– Ну это же они плохие остались. Они… чё с них? Ничего. Так себе. Один хромой Ефан был. У нас и не было. Один так какой-то был, ахибка. Так кашлял какой-то. Ничего. Какой-то они. Мы даже лучше жили. Но мы жили за счет деда. У нас дед – от себя никуда. Он матери помогал все время. Дед. Жалко его нам, он нас любил, мы хорошо к нему относились. В семье у нас все дружно было. И замуж мы вышли, тоже мать всех зятьев: варит, самогоночку гонит – Борис, на, покушай, а то я не кушаю, не знаю, хорошая она или плохая. Я говорю, мам, ну зачем ты подносишь? А он у меня был пьянюшка, Борис. А рабочих дней у него в месяц 31, а у него 37. Рабочих дней у него 37. Он хоть напился, хоть что – утром встает и идёт на работу.
– Вообще была культура в деревне, что нужно трудиться. Все трудились.
– Да. Ну все вот. Ну и в нашей семье. Скотники и доярки. Больше у нас… Ну были это… Сначала была вот механизация, трактора. Сначала все были у нас. И управляющий был у нас. Вот. И полеводский бригадир был. Я животноводский, а это ещё и полеводский был бригадир. И управляющий был. И коровы, и трактора – всё было у нас в Раевке. А в наряд мы ездили сюда на Филатовский.
– А это было уже в ходе войны или после войны?
– Нет, это уже после. Замуж вышла, родила, дети у меня, Пашка с 63-м году был. Мы в совхоз вступили – сюда, в Филатовский – в 66-м году. А так мы жили в колхозе. Когда сюда – мы назывались совхоз; не колхоз, а совхоз был.
– Скажите еще, пожалуйста, а как во время войны воспринимались… пытались люди жить получше, может быть собирались колоски из полей?
– Собирались, да. Вот Борисова бабка все время собирала колоски. Вот его бабка.
– Не гоняли там?
– Нет, за колоски не гоняли, даже иной раз и ходили. Стоять, урожай ходили туда побольше набрать.
– Но особо не гоняли?
– Нет, нет. Колоски прям бери, хоть там ходи всю ночь и день. Собирали колоски. А мололи вот такие были.
– Жернова?
– Да, вот такого вот: навертят и мучицы, и пышки наделать. Ну, я говорю, у нас две коровы, молока у нас хватало, всё. Сметаны, мать их напечёт прям, мы наедимся.
– А ещё что-нибудь? Может быть, у вас сады были?
– Были.
– Были?
– Были. Не у всех, а кое у кого было. А так ветёлки даже не было, ни у кого. А потом впоследствии все стали разводить, все стали понимать. И сейчас там уже заросло всё. Все ушли там, никто не живёт в Раевке. А я там любила жить, у нас грязи там не было. Всё там хорошо было. Ну нас стали одолевать… колодец только сделают – унесут там какую-то часть эту, сдают на металлолом. И опять моторы не работают. И все мучились, мучились, и так стали расходиться, все молча. Мы сейчас тоже… нам надо в Инжавино уходить. У нас сейчас есть там жильё, дочь нам пристроила к своему дому жильё. А нам не хочется уходить. И вот с дедом: я больная, у меня инфаркт был, и я этим, ковидом болела. Только инфаркт полгода – и ковидом заболела. И вот сейчас сердце никуда. Вот. А дед тоже стал, он болел резко, что с ним делать – температура поднимается страшно. Сколько-то пройдет – опять температура страшная. Ну и в Тамбов его положили. Оказалось, у него забиты камнем желчный пути. Операцию делать– он не выдержит. И вот так вот сейчас и живет. Ну, сейчас приступ не делается. А то мы ему кормили, знаешь, детским питанием. Детским питанием.
– Ну да, это полезно.
– Вот. Ему нельзя было такое ничего. А сейчас мы себе позволяем. А сейчас мы позволяем мы колбаски съедим, мы ветчинки съедим. Позволяем себе это (смеется).
– Расскажите, пожалуйста, а как воспринимался вообще враг? Вот этот вопрос Вы не сказали – как воспринимался враг? Немцы во время Великой Отечественной войны? Вот как вам, как старшая сестра говорила, как мама говорила о немцах? Они их сильно ругали?
– Ну они чё ж, погибли. Как же матери? Матерь-то очень трудно, без отца-то было. А мы только родились. Как? На старшей сестре мы ей не давали выйти, мы на ней висели. Она – на улицу ей охота сходить. Она от нас хоронилась. Мы как увидим, мы за ней орём-то, висим, не пускаем её.
– А парень ее как говорил?
– Да парень тут что же, она только вышла. Ну и вот тут она в своем селе вышла замуж. Вот это сейчас тоже она померла, она с 32-го года была. Тоже инсульт у нее. Она уехала к дочери в Москву и там померла в Москве.
– Спасибо вам большое.
– Спасибо, что мы с вами поговорили. А то мы занемеем.
– А это важно. Важно сохранить память о войне. Очень важно.
– Ну, вот так вот мы и прожили военные годы.
Архив АНО «Тамбовское библиотечное общество». Аудиозапись.
№ 23
Из воспоминаний З.Н. Алехиной, 1941 года рождения, уроженки пос. Казаковский Уваровского района.
2024 г.
– Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста.
– Я, Алехина Зинаида Николаевна, родилась в посёлке Казаковский, 1941 года, 16 июня.
– Расскажите, пожалуйста, вы помните, как вам рассказывали насчёт того, как началась война?
– Ну как, я ещё маленькая была, я ничего не знаю об этом. Ничего.
– А родители в дальнейшем вам рассказывали, как вообще всё было?
– Ну конечно, да. Началась война, конечно была паника, все боялись, все были в страхе. Папа ушёл, прям с первого года войны, ушёл на войну, вот. Мама рассказывала, что он был в плену. Да, долго. Вот, потом, когда кончилась война, шли с фронта, много, а папы нашего всё не было. Да. Когда начали пленных оттэда, ну как, забирать, да, забирать, к нему подошли, говорят, два мужчины, сказали, а этот, говорят, он не доживёт, мы его не довезём. А он сказал – возьмите меня, пожалуйста, у меня двое детей. И его взяли! Он выжил. Пришёл с войны, полный, хороший, всё. Ну, конечно, где ведь был, я забыла, в каком городе. И их там кормили, откармливали, да. И он пришёл. Папа до самой старости не ел сливочное масло. И там кормили их, наверное. Он пришёл полный, всё. Но я его не помню. Мне было четыре годочка. Всё, я не знаю.
– А вот вам рассказывали, какая жизнь была накануне войны? То есть, буквально, вот отца забрали – какой быт был? Чем занимались?
– Это я не знаю. Нет. Какой бы до этого занимались? Все работали, все в колхозах работали.
– А после войны? До войны, до войны еще.
А, до войны… Папа работал. У меня его права были на шофера, но он работал плугочистом. Вот, на тракторе. Вот так. А мама работала, разнорабочая.
– А после того, как отец ушёл, чем занимались?
– Ой, как папа ушёл на войну, и мама работала, всё. Она… Я была маленькая, мне было всего одна неделька. Мы жили у бабушки, да. А бабушка сказала, что я вас не вытяну. Выходи на работу на маму, сказала. Мама вышла на работу. Был дом, вот так, Быковых назывался. Да, три окна было, большой дом. Вот. А свинарник был рядом. Я этот свинарник даже помню. Вот! И мама… Я лежала в люльке, она меня раскочнёт, а сама свиней убирать. Придёт, а я вся обкричалась, она опять покормит и опять свиней убирать. Вот так и выжили. Пришёл папа с войны, и мы перешли через луга, перешли на Спуновский, там жили. Два окошка было. Дом маленький, два окошка, печка – всё! Даже к судне лавки полов не было. Мама молодая была, да, и сигала по дощечкам, чтобы стопить печку. Топили печку соломой. Не, дров не было! И коренюшками. Вот так. Ну, я ходила, когда в школу, окончила там 4 класса, ходила в Красное Знамя, да. 4 класса кончила, перешла в Шибряй. В пятый класс я уже ходила в Шибряй, жила у бабушки. Зиму в школу хожу, а летом нянчить вот этих вот сестер. Я вынянчила четверых, да. Придёт мама с работы: Зина, иди домой! Пошли на работу. Поля были близко, они приходили на обед домой, а я на речку, покупаться. Вот, я схватываю шабалы, и через сад домой иду, мама на работу. Приходили мама с работы и папа поздно. Я уже много раз засыпала на сундуке голодная. Ляжу, свернусь, как кошечка, и усну. Вот так. И это такое было детство.
– А во время войны у вас материальное положение было хорошее?
– Какое хорошее? В Пасхе, если сошьють, одно в платье – и слава Богу!
– А что носили тогда?
Ходили в школу в пальто. Называли пальтушка. Вязунка. Да, варежки, надвые даже, шерстяные надвые варежки, носки и валенки. Вся наряда.
– А мама вот рассказывала, что вы ели в военное время? То есть у вас мяса было в достатке, нет?
– Как?
– Что вы ели в военное время? То есть…
– О, что ели… У нас была корова, молочко ели, кашу. Хлебы пекла мама свои, и вот ели на каши выросли и на молочке. Но не всегда молочко ели, надо заплатить налог. Да. Молоко, плати сколько литров, или маслом. Вот нам скажет — Зина, полезешь в погреб, если горшочек полный, то его не бери, а если половинка, то бери! Залез в погреб – полный, значит нельзя, я вылазию. Вот так и жили, да.
– А какое участие принимали на фронте и в тылу? То есть вы помните, что-нибудь рассказывала, может быть, мама о том, как отец воевал и в тылу, то есть здесь у вас были какие-нибудь…
– Мама рассказывала, даже она плакала. Он же был в плену, папа. Вот такой сарай, длинный, каменный, ни окон, ни дверей. А он был, шинель на нем был, длинный шинель. И постелить, и оденеться, и под голову.
– А он в начале войны в плен попал?
– Да.
– А потом, то есть он вышел из плена, дальше начался сражаться?
– Да, а потом вышел из плена, откормили их, пленных наших, и домой. Поляки, поляки освободили, когда поляки забрали из плена таких вот здоровых и всё, вот таких по домам. Вот, такие поздоровее отпустили куда-то, а это по домам, вот таких слабеньких. Вот что и мама… А после войны папа пришёл, начал работать в плугочистом, да. Мама на разные работы. И я окончила 7 классов и на свеклу.
– А маму вот с папой, может быть, рассказывали, вот в основном маму, может бабушка, вот, как тылу упомогал? То есть, может быть, хлеб отправляли на фронт, может быть, вязали что-то, отправляли на фронт?
– Ну как они, налог, масла надо, и молоко, да, а это не помощь? Вот так и помогали. И яйца мы же не ели. Как надо, налог заплатишь, потом уже ешь.
– То есть с этого налога всё, получается, шло на фронт?
– Да, да.
– А вот расскажите, бытовые трудности какие вот были?
– Какие трудности?
– Да, бытовые. То есть работа, питание?
– Питание, конечно, ничего, никаких витаминов, ничего, ни конфет, ни сахара не было. Нет. Каша, картошка, молоко. Всё!
– А из овощей?
– Ну что, вот летом мы сажали огород, мама на работе с папой, и нам прикажут – полейте помидоры, огурцы. Вот выращивали, всё своё. Пололи, сели просо. Пололи мы, мама скажет. Там две бороздки мне, две бороздки Тане, Володе, и мы все пололи. Да.
– Хорошо. А мама рассказывала, что отец писал с фронта?
– А он не писал.
– А мама на фронт писала?
– Я не знаю. Он с первого года в плену. Никакого письма не было. Ни одного.
– И то есть до конца?
– Да, и до конца. Он даже не сразу пришел из плена. Шофером-то выучился там вот, я забыла, в каком-то городе. И он шоферские там получил права-то. Вот он пришел уже в осенью. Вот. Он там откормился, отъелся, конечно, и сразу. Ну, потом, может быть, они вот насчет этого, как он в плену, они разбирали, как вот, и, может быть, поэтому он… Ну, многие приходили к осени, и не сразу, не в мае. Там все вот так вот. Никакого письма не было. Когда забрали, у нас вот дядя, он ушел в армию, он с девятнадцатого года ушел в армию, и началась вот эта война. Он одну письмо только прислал моей бабушке. Мама, очень плохое там положение, вот такая война, возможно не увидимся. И все! И тоже попал в плен. И в плену на первом году он умер. Потом какие-то сведения, заходя в компьютер, сведения были из Германии. Такой-то Алехин Иван Никитич. И он в плену там умер. Молодой мальчишка. Ушел в армию и не увиделись. Это он девятнадцатого года, дядя.
– А еще кто-нибудь у вас уходил на войну, кроме дяди?
– Нет, у нас больше нет, да.
– Хорошо. А вот что входило в каждодневные обязанности? Вот что вы каждый день делали? Вот у вас, получается, был свинарник свой как бы небольшой?
– Свинарник, он колхозный был, они работали, да. Мама работала на свинарнике, и бабушка на свинарнике работала. А Зина, она маленькая была, я ее вот раскачну. А потом свинарника не было, потом птичник был. Мама и на птичнике работала, свекловечницей. А Зина, когда подросла, она свекловечницей тоже пошла. Все работали. Все работали, вязали, пряли и вышивали, даже вот скатертья, всё, вот у нее все труды.
– Так. А может быть, вот мама рассказывала, вот какой момент был самый трудный вот во время войны? Вот когда вот было какое-то вот критическое положение?
– Да я думаю, каждый день трудный был.
– Каждый день?
– Да. Каждый день. Каждый день. Мы двое маленькие, надо нас поднимать. А как? На что? Где что? Чего брать? Трудно.
– А праздники какие-нибудь? Были? То есть отмечали во время войны? Не знаете?
– Нет, не поняла.
– А какие-нибудь праздники, церковные, не церковные, не отмечали, нет?
– Нет, нет, нет, нет. Мама рассказывала, они вот у них где-то они убирали, может, снопы и всё. Может быть, и когда поплачь, а когда давайте споём песню. И песню запевали, и плакали, всё было.
– А как вот в школе учились?
– В школе?
– Да. Во время войны, вы не знаете? То есть, мама не рассказывала, например? Может, соседские?
– Нет, я уже после войны училась.
– Ну да, я имею в виду то, что, может, соседи какие-нибудь учились. То есть, может, рассказывала? Нет?
– Нет. Ни о чём.
– А вот… Какое настроение, то есть, было в тылу? Какое отношение, во-первых, ещё было к власти? То есть, мама не рассказывала, то есть, были какие-нибудь бесчинства или, наоборот, то есть, все как-то сплотились.
– Ну, а к какой это власти? Какая, может быть?
– Ну, хотя бы, например…
– Никого не знали, только председателя колхоза.
– Ну, он хорошо относился к остальным?
– Ходили на работу, мама и папа, ставили трудодневные палочки. Они, выход. И на них давали, это как я помню, мед давали понемножку, арбузы давали, вот, и зерно. Вот на это и жили.
– Это во время войны?
– Это нет, после войны. А во время войны, я не знаю.
– Мама не рассказывала?
– Нет.
– А вот не знаете, не рассказывали касаемо того, может, кто-то скрывался от армии? Нет?
– Нет. У нас такого не было.
–А вот отношение к местной власти было хорошее, да?
–А у нас их не было.
–Нет. к местной власти. Ну вот председатель хороший был?
–Хорошие отношения. Почему? Все председатели его уважали. Все. Да, каждый.
–Хорошо. А вот отношения к Сталину какое было?
–Ну как? Он войну провёл.
–А вот во время? Во время?
–Хорошие отношения и к Сталину, и к Ленину. Однозначно. Да. О нём песни слагали.
–А как вот воспринимали врага? То есть немцев?
–Конечно, плохо. Конечно, такое.
–Вот кому-нибудь, может, с фронта письма приходили? Касаемо, как вот с ними обходились? С некоторыми пленными?
–Этого я не знаю. У нас пленных не было здесь, и мы про это, да, мы не знаем.
–А вот отец в плен попал. Он рассказывал, как конкретно к нему там относились?
–Нет, он маме рассказывал. Она рассказывала очень мало. Она плакала, да. Она плакала. Он не рассказывал. Он только сказал, говорит, очень было плохо. За мослы, за шкурки картофельные дрались. Они очень ослабли. Они там ничего практически не ели. Я не знаю, как они выдержали. Сильный, наверное, всё-таки был. Очень. Он плохой был. Он лежал, когда его поляки взяли в семью, в себе в семью. Вот, он упросил их – возьмите меня. Они говорят, мы привезём тебя, а ты умрёшь, ты не годен. Потом всё-таки взяли и вот, откормили.
– А вот как воспринималось то, когда говорили то, что враг начинает, то есть, наступать? То есть какое отношение было в деревне? То есть боялись?
– Это когда кончилась война, все вроде радовались, все в жизни радостные были, весёлые. Вот. А я тут, я не… Ну, мне четыре годочка было, что я…
– Я понимаю. Ну, мама, может, рассказывала, то есть, о военном времени. Вот я как раз-таки про это…
– Ну, шли с фронта, встречали. с радостью, всё. А ребятишки, они чего же, они оружие делали из деревяшки, им отцы там делали, кто деды, и стреляли, играли в войнушку, это всегда, это всегда было. Чё, кто немец, кто русский, вот, а потом менялись немцы и русские, вот так вот. И очень долго играли в войнушку. А как относились дети? Это дети.
– А как вот воспринимали то, что близится война? Точнее, близится, наоборот, конец уже войны? Мама рассказывала, то есть она чувствовала то, что, может быть, отец еще живой, как бы…
– Ну как, не знаю, ничего она не рассказывала, так, мама.
– Но ждали же то, что когда-то она закончится, или все думали, что это бесконечное что-то?
– Все ждали, когда закончится. Похоронки не было, и слава Богу! И слава Богу, и все ждали, надеялись, и всё. Вот так вот и всё. А папа, он потом, когда всё, после реабилитации, он был награждён, много у него и памятных медалей, и орден, у него много наград.
– А вот когда случилась Победа, как вы про это узнали? Как вообще отреагировал народ?
– Победу когда объявили, как все радовались? Ну, взрослые радовались, а дети тем более! Конечно, я не помню.
– Почту, может быть, принесли какую-нибудь или ещё что-то. Нет, не помните?
– Нет. Ну, тут у нас, господи, там, конечно, радио, сарафанное радио. Тут всё, всё сразу услышали.
– А какой был быт после войны? То есть работа, учёба? Может быть, кто-нибудь из вашей семьи семью создал ещё?
– Ну, как я окончила 7 классов и на работу вышла. Вот, на свеклу поработала. Сколько? Два года, наверное. Восемнадцать лет мне было, я замуж вышла. Вот. Вышла замуж, народился первый ребёнок. Тогда раньше сидели, если есть у кого свекровь, один год. И на работу! И я вышла на работу. Да. Работала и дояркой: руками доила двенадцать голов. И телятницей двадцать голов убирала. Потом вышел на свеклу, пололи сначала тридцать соток рыли лопатой, потом пять соток, потом пять гектар пололи, и восемь, и десять пололи, да, да. Пололи это, рыли даже до Нового года. Грузили вилами, шестирогие вилы. И вот так подальше, к кабинке туда. Вот так.
– А когда отец вернулся, он вернулся без увечий каких-то серьёзных? Так? Когда отец вернулся, он вернулся без каких-то увечий серьёзных? Или наоборот, то есть?
– Не был, не ранен, не был ранен. А, нет, да, нет, нет. Не ранен.
– А кем он работать потом стал, когда вернулся? Он плугочистом работал, и трактористом работал, потом бригадиром работал. Вот. Всегда в работе. Всегда. Брат старший тоже работал шофером, Володя, с 38-го года. Потом работал долго трактористом до конца, до пенсии. Даже лишние три года работал трактористом, его просили. У него трактор был с ковшом, и вот он работал. А я работала до конца на свекле. Женя работал, он киномеханик, брат. Киномеханик. Но он мало работал киномехаником. Потом стал шофером, потом уже ближе к пенсии включал вакуум. Это машинная дойка. А он включал. А жена его, Лида, была заведующей фермой. А он включал. Работал до конца. Толя, брат, это последний брат, самый младший. Вот Татьяны Константиновны муж, он работал шофером, да. И этим, мастер-наладчиком был в колхозе, вот так. А Таня работала лаборанткой. Много лет. Нет, ты работала в столовой, потом лаборанткой!
– А Ваш отец не рассказывал, где конкретно он был в плену?
– Нет, я не знаю. Где-то вот где поляки освободили. Я вот не знаю, Освенцим, вот что ли, вот так вот. Не могу сказать. Не могу сказать.
– А вот одеваться уже стало лучше, то есть материальное положение после войны улучшилось? Материальное положение после войны улучшилось? То есть стали лучше питаться?
– Ну, не сразу. Нет, нет, нет. Далеко не сразу. Нет. И одеты были плохо, и обуты, и питание не сразу. Долго, долго. И это налаживалось очень долго. У нас в семье шесть человек, и я даже сама помню, что у нас было, что там, питание. Щи, каша, молоко. Вот. Ну, пышки. Мама хлеб всегда пекла. И всё! Больше ничего такого не было. Ну, с мясом были, конечно. Коровка была. Телочка режут и в кадушку засаливают её с мясом.
– А какие были орудия труда? То есть мотыжки, тяпки, лопата, косы были?
– Кто? Орудия труда? Тяпки, вилы, косы, ну всё это было. Нет, ну всё было, всё вот и всё было. Ну и тяпки, лопаты, косы, вилы, чо ещё?
– Хорошо.
– Раз она на свёклу, это она сказала, вилами грузили свёклу, то… На корову траву косили косой.
– А что вы ещё хотите сказать? Касаемо этого… Касаемо войны, касаемо жизни…
– Ой, что… Никогда бы она не нужна была, эта война. Да. Никогда. Вот ты смотришь телевизор, включу телевизор, у меня аж поднимается давление. Я переключаю. Смотрю обезьяну. ЗОО. Вот так.
– А сейчас, то есть, касаемо войны Великой Отечественной, то есть, сорок первый – сорок пятый год, то есть, какое вот впечатление у вас осталось? Я понимаю, что…
– Никогда чтоб этого не повторилось. Но. Но? Но. Идёт. Да. Желательно, чтобы скорее всё это закончилось. Люди гибнут. Страшно.
– Ну, может быть, вы помните, мама что-нибудь рассказывала интересного? Какой-нибудь случай.
– Какой? Про голод. Холод.
– А как вот? В церковь, то есть, исправно ходили? Или всё-таки были какие-то ограничения? В церковь тогда ходили?
– Ходили, у нас ходили. Да. Бутиново, пешком. Мы ходили пешком. Мы ходили куличи святить в галошах, а там ручьи. А мы галоши снимем, пересигнем ручей и опять обуваем. Ограничений не было, не было. И всех крестили, и всех, и всё. Все крещеные мы, все шесть человек, все в церкви Бутиновой.
– А это было как… ну, по-тайному, вот эти все службы?
– Нет.
– Или открыто?
– Открыто. Потому что церковь оставалась и в годы войны, а оставалась Утинская церковь. Она существовала после войны несколько лет.
– А что преобладающее сажали? То есть, может быть, ячмень, лес? Что сажали в колхозе?
– Ячмень, овёс, всё сажали. И овёс, и ячмень, и горох, и просо. А что ещё? Кукурузу сажали. И арбузы сажали. На трудодни давали арбузы.
– Это после войны?
– На трудодни. Мёд давали.
– Хорошо. А может быть, всё-таки отец рассказывал касаемо того, кто с ним был в плену? То есть как у них были отношения?
– Нет, нет. Тогда не рассказывали ничего. Даже про плен тем более. Тогда про войну это они не рассказывали. Мало говорили. Потому что это всё воспоминания. Вот даже кто-то воевал, и то никак не открывались.
– А вот награды у вас сохранились, которые…
– Да, сохранились. Нет, это у меня в доме.
– Хорошо. А какие награды, не помните?
– Юбилейные все, после… Папа умер в девяносто пятом году. Вот какие юбилейные у него все. И орден какой-то.
– Так, а папа у вас какого еще года рождения?
– 1913.
– А папа не рассказывал? Может быть, у него папа в гражданской войне участвовал?
– Нет, дед Матвей не участвовал в гражданской войне. Ой, Господи, ну тут вот можно рассказать. Вот даже перед войной, вот он, дед Матвей у нас…
– Перед какой?
– Перед Отечественной. Вот. Он уже какое-то слово сказал про власть. А ничего обидного такого нет. И какой-то передал предателю. Какой-то передал. Вот. И его приехали, забрали. И он в войну сидел в тюрьме. Восемь лет отсидел. Дед наш.
– Ну вот, когда я спрашивала, касаемо власти, вот это вот мне, кстати, было нужно. А ещё были похожие случаи?
– Ну, у нас вот как вот про своё, а так я вот не знаю. Ну, я ж молоденькая. Но у нас были вот такие люди и знали, что кто-то предаёт. А он такой уважаемый дед был, он подшивал валеники всем, всем казаковским, кто жил. Я вот уже после спрашивала у своих, я говорю, как дед Матвей был? Потому что он когда умер, мне 8 лет было? Он, говорит, замечательный был. К нему все шли подшивали, все женщины, когда без мужьев, все к нему ходили. Дед Матвей, подшей валенки, Дед Матвей, вот там какие-то, вот там… Он всем-всем помогал. Ну вот отсидел вот ни за что, за какое-то слово. Даже за это слово можно даже сейчас, вон как говорят. А тогда вот так вот – отсидел. Восемь лет.
– А как вы вот сюда попали? Вот в Уварово? В Шибряй?
– Замуж вышла.
– Замуж? А когда вы замуж вышли?
– В пятьдесят девятом году замуж вышла сюда. И вот живу до сих пор. Дом старенький, строен до войны. Да. Подделываю так чуток вот немножко и живу.
– А с его стороны родственники рассказывали что-нибудь о войне со стороны мужа?
– Федина родня-то никто. Отец был, свёкр, был на войне. Пришёл он это, весь жёлтый. У него была онкология. Пожил сколько, умер. Всё. Потом была мужнина сестра, это моя золовка. Она была на войне. Взяли её молоденькую на войну. Она там познакомилась с каким, не знаю, была молоденькая, красавица. Да. Забеременела. Пришла домой сюда, в этот дом. Родила мальчика. Да. Он слал письма ей, не ходи на работу. А у ней были еще кроме трое, две сестры и брат. Она вышла на работу, она грамотная. Она вышла работать бухгалтером. Но подруги, наверное, не очень хорошие были, написали в армию письмо. Как назвать? Мужу. От того родила, да. Написали, что Анна Николаевна твоя вышла на работу. Да. Он заревновал. И всё у них распалось. Всё!
– Может, что она про войну говорила? А это не обязательно.
– А про войну? Ну что? Она была мало на войне.
– А кем она была там?
– Это я не знаю. Это я не знаю.
– А там она рассказывала, что?
– Ну, конечно, страшно. Пришла, всё. И тоже голод был. И она вышла, когда на работу, говорит, н давали ни денег, ничего, жмых. Да. И вот она кормила братья и сестер, маму и папу жмыхом. Да, думаете, она в одеяле была до смерти. А её муж рассказывал? А её муж, она же ведь с ребёнком, и же после она замуж только вышла, и уже потом опять… А это она на войне забеременела, приехала. Да, на войне она, на войне. А муж уже, писали подружке, он не пришёл. Он не пришёл, этот муж, он не муж, просто она забеременела. Ну всё, как они расстались, всё. Он сказал ей, не ходи на работу, да, я тебе обеспечу. А семья? Надо кормить, война, голод. Она и вышла. И все, расстались. А что она расскажет? Она ничего не рассказывала.
– Она рассказывала, как вот она жила, получается? Что они ели, вот я поняла, вот что давали. То есть был голод такой, да, во время войны?
– Ну, тут вот она плохо жили. Жмых они ели. Да. А тут плохо. Ну, чё ж, когда наступать не… А так, ну, а чё ещё, не знаю. Чё там? Лебеду ели. Да. До желудя. До желудя. Да. Желудки лебеду рвали, сушили, мололи, и текли оладьи. Зелёные были. Цвет зелёный. Вот что ели! И здоровые были. А сейчас всё едят. И больные. Ну, вот так вот. Вот.
– А она рассказывала, может быть, про немцев что-то? Нет?
– Ничего не рассказывала. Нет, Таня. Таня, может, и…
– Про немцев не рассказывала Анна-то? Про войну всё надо… Зин, надо всё про войну говорить. Про войну.
– Да. Ну, а чего она расскажет? Она приехала, когда с войны. Скорее тут, потом уехала в Москву. Замуж вышла. И я ее не видел. Мы вместе в ней не жили. Нет. Она приезжала в отпуск и все. А какой может быть разговор? Война закончилась, и все рады. И все уже, скажете – а вы бы не говорите ничего. Война кончилась, и слава Богу. Так и ждём вот, когда наконец вот эта война теперь.
– А вот в ту войну многие вернулись в ваше село, или было много тех, кто не вернулись?
– Ой, ну… Многие не вернулись. Многие, да. И это… Таня, мне кажется, вот Любовь Трофимовна, это отец, он не вернулся с войны. Да. Потом же… И это Горелов. Витька Горелого отец, Марьи Тимофеевны, муж. А кто? Ещё кто? Памятник стоит там, погибший. А, у нас, у нас в Шибряе, там либо шесть, сколько, много, да. У нас памятник, я не знаю, либо шестьсот, что ли, человек. Не знаю, сколько.
– А у вас забирали людей как? Сразу прямо, то есть такое было массово? Или потихонечку? То есть там…
– Папу с первых дней забирали, забирали. Может кого-то там потихонечку, а папу с первых дней.
– А были те, кого не тронули? Или может те, кто смог все-таки как-то… по каким-то причинам остаться.
– Зина, ты можешь, знаешь, в войну, вот Василий Афанасьевич, он не был на войне, то сколько ему было, или он был, Василий Афанасьевич?
– Был.
– Был на войну?
– Да.
– А кого оставляли тогда вот в колхозе, надо кого-то работать-то, кого-то оставляли? Наверное, пожилых просто, которые постарше.
– Всех забирали, я даже не знаю, кто был. Да, забирали. Все. И старые малы все были. На войне одни были женщины. И пахали, и косили, и сеяли, и всё, и молотили. Всё было на женских плечах.
– А вы, дети, как вы помогали?
– Ой, я что делала? Вот. На войну ей было. Ей и Таня. Да, я сейчас тебе скажу. Я возила вязки на лошади. И вот лошадь, наверное, упустила вот. Она летела. Вот так, напрямую. И подошла к конюшне, и я шлёпнулась. Но не убилась, ничего. Скачала, как ни в чём.
– Это сколько было приблизительно?
– Сколько было мне? Да лет 17. А, на это уже немало прожило. Да, я уже большая была. Вязкой возили. Подгонишь задом, ложь её, ну-ка, назад вещами. Вот. И они вязкой, так вот, верёвкой окруживают. Лошадь тронешь, и она кормит. Вот. Возил вязки на лошади.
– А какие у вас животные были, вот, пока вот, период войны? То есть, вот, коровы, свиньи нет?
– В войну у нас корова была. А как же? Вот, в войну была корова. Была. Отдельная. За счет коровы. За счет коровы жили. Была. На молоке выросли. Молоко. Да, как же. Куры, корова, да. И платили налог. И сами ели. Ну, не вдоволь. Надо на войну. Масло, яйца, молоко.
– А кроме коровы, куры, что-нибудь было? Кроме коровы, куры, что-нибудь были?
– Нет, куры, коровы нет. Это уже после войны поросята. Стали поросят держать. А так поросята, овцы, козы. Поросята не сразу, это же после. А овцы, козы были, а поросята уже после. Потому что фуража мало было, зерна. Это уже тут после-после.
– А сколько вы классов закончили? Во сколько вы пошли в школу?
– Семь классов.
– А во сколько пошли в школу?
– Я не знаю, лет восемь мне было. Восемь лет. Ходили в Знамя, в Красное Знамя. Далеко, километра два-три далеко ходили. Зима холодная была. Сидели в валенках, в варежках. Холодно было в школе. Ну, учились, ходили. Придёшь домой, и дома холодно. На печку залезешь, валенки вот так сложишь и пишешь. Вот так. Грамотеи.
– Хорошо. У вас есть что-нибудь ещё добавить, касаемо военного времени?
– Чё ещё?
– Про войну, про войну всё.
– Про войну? Ну, ничего не знаю.
– Хорошо.
– Ничего, потому что мала была я. Был бы лет восемнадцать, вот так вот, все бы я, а то нет.
– Но родители помнят, то есть не помнят.
– И родители. Если бы сейчас она, мама была жива, мы бы у нее все спросили, а то все ушло. Не доходило тогда до этого, до мозгов. Все, мимо. А если бы была бы сейчас мама и папа, мы в них всё спросили. Трудно. И всё. И похоронки приходили. То там крик, то там крик. И вот так вот. И война и прошла. Очень много, конечно, погибло.
– А много тех, кто без вести пропал?
– Без вести? У нас, как вроде, все, не знаю. Ну, знаем мы. На Горельске у нас тогда тетя Оля-то, у ней муж без вести пропал. А потом его тогда после нашли, так-то он летчиком был. А, это мой крестный. Да. Он жил на Горельске.
– А как его зовут?
– Это, как его зовут-то? Ее Ольга, а его Николай. Николай это сын у них, Коля. А его я не знаю. Не Женя? Не могу сказать. Что я не знаю, я не знаю, как его звали. Он окрестил и все. И на войну. И вот он пропал без вести. Да. А потом нашли, как это, кто их называли, как это… Искатели. Искатели, да. И нашли. У него кожаный был какой-то, что это…
– Ремешок?
– Да, да, да. И там были фотографии жены. И я не знаю, какие-то документы. И вот, да. Это же после прям долг прошла, это вот, времени нашли. И где-то хоронили, по-моему, по-моему, ездили. Она ездила! Да. И это, Коля ездил, сын и жена ездили, где он похоронен, что ли, как. Ну, на место, где это там случилось, да, всё.
– Хорошо. Спасибо большое!
– Пожалуйста, может что и не так!
– Нет, всё хорошо. Спасибо большое. Всё хорошо очень.
Архив АНО «Тамбовское библиотечное общество». Аудиозапись.
№ 24
Из воспоминаний М.А. Детковой, 1942 года рождения, уроженки г. Уварово.
2024 г.
– Мария Александровна, скажите, пожалуйста, вы родились здесь, в Уварово?
– Здесь, в Уварово, в этом же доме.
– А какая у вас была девичья фамилия?
– Девичья фамилия у меня была Трегубова.
– И эта фамилия характерна для Уварова, да?
– Это характерная фамилия. Это, знаете, ещё и до революции родители отца жили тоже в этом вот доме. Вот в этом доме у них было три брата, отцовы эти самые. А их воспитывал дед. А родители у них умерли. Вот была холера в этом, до революции еще. И они это где-то…
– Девяностые, наверное
– Даже не семнадцатый год, не революция, где-то десятый год. И сначала у них умер отец, а потом умерла мать от холеры. И они оставались, дед с бабкой, и вот он их всех вырастил и поженил. И потом в этом доме, отец рассказывал, 25 человек жило, потому что уже поженились, и уже дети у них пошли, у всех. И уже разошлись перед колхозом, перед 28-м годом. Колхоз образовывался в 1928 году. И стал вопрос… А у всех были… Вы, может быть, знаете их, раз историк. В этих… В полях там назывались отруба. Колхоз тут вот при доме, и на каждого это члена там была земля. А когда…Начали колхоз. Все эти отруба отошли в колхоз. А оставляли при доме на хозяйство сорок соток. И тогда у них стал вопрос, чё же это самое, как же надо, чтобы уже на каждой семье хоть эти, а то на всех сорок соток это чё. И вот они в то уже в двадцать восьмом году уже все разделились, и вот напротив дом стоит. Тут один брат жил, а следующий дом, это другой брат. А старший брат вот отцов, отец, остался при деде. И то, когда делились, дед молчал, с кем пойдём. Там эти, ну, раскладывали, чего там, не помню я, делили. Ну, там хозяйство какое-то. И он спрашивает, дед Вась, ты с кем пойдёшь, останешься? А он говорит, я пойду с Фёдором. Это мой отец был. Отец был Александр Фёдорович. А он, вот я останусь с Фёдором. И дед остался здесь. А почему он их вырастил? Он, дед, занимался, пас скот. Собирал личный скот. И вот он то, что заработает, то вот он их на этом вырастил. И мой отец даже этот самый и он окончил церковно-приходную школу в то время. Это было очень… И учился хорошо, и он, может быть, бы и куда-то дальше, но дед не пустил, и говорят, а как же? Мы-то к ней-то, мол, уйдёшь, а мы-то как будем без тебя? И он так в колхоз пошёл.
– И как в колхозе они жили, трудились? То есть, они были обычными колхозниками? Как всё?
– Обычными колхозниками. Ну, отец, так как был вроде по тему этим грамотный, он вот ходил там, размерял посевы, сколько там… Сажень у него, я помню, была, он это ходил. И там он, вообще-то, был… владел строительными рамами, мог связать двери. В колхозе, если что-то там, какое-то строительство, вот он в основном так. Он по пахоте, ну, занимался пахотой, но в основном женщины там это сеяли, пахали, пололи. И трудодни получали. Трудодни получали еще до войны-то более-менее ничего, а когда началась война, тут все оставалось для фронта.
– И трудодни, наверное, стали распределять, больше их стало на людей?
– Ну их стало больше, но на выплату ничего практически, вот со слов матери, ничего практически не получалось.
– А дети тоже трудились в колхозе?
– Во время войны? Дети, в общем, у меня было два брата, сестра и я последняя. Вот два брата, один с двадцать восьмого года, второй с тридцатого. Вот они, вот старший брат, он только вот закончил один класс школы – а то сразу в колхозы и даже дальше школу не посещал, потому что все для колхоза.
– Вообще не посещал?
– Ну даже больше не окончил вот один класс этот самый ну читать умел да расписаться, а больше потому что все до этого как началась война так колхозы, колхозы, а потом уже он на железной дороге работал. А вот второй брат, тот маленький, хоть и школу закончил, то… Все во время войны, вот старший брат как на уровне взрослых работал, а вот второй брат, ему только 11 лет было, так его мама устроила пасти скот в лесхоз. Тогда вот у нас тут был лесхоз, государственное уже предприятие. И выручало то, что у него вот дали трудовую карточку этому брату второму. И он получал там сколько-то продуктов. И то он там и жил, и этот, ну, скот-то рано надо выгонять же, он отсюда не успеет. А мама рассказывала, что с колхоза придёт поздно, и она знает, когда ему это продукт дают. И она через речку, через Ворону переплывёт на кордон. Это Красный Кордон назывался лесхоз. И он ей там что, оставит немножко себе, а это сюда, потому что… Ничего. То, что в огороде это, а больше продуктов никаких нет.
– А ему давали продовольственные карточки, потому что лесхоз считался государственным?
– Государственным. Он государственный. А колхоз, тут всё только трудоднями всё это самое. А на трудодень там денег никаких, ничего не давали, не платили. И даже во время войны, после войны там сколько копеек, и то даже. А остальное – всё, всё для фронта, всё для поддержки.
– А может быть, просто вопрос такой, но все равно надо мыло приобретать. Какие-то такие товары.
– Товары – это то, что есть, а мыло ухитрялись, сами варили. Какое, из чего?
– Из золы, наверное.
– Это вот, я помню, что варили мыло. Какое там это… Чей состав? В общем, ничего не было. Денег не было. Единственное, что… Я помню, мама рассказывала. Вот, если вишни, на садах что-нибудь у этой… Ну, не у всех тут были. Вот если там ведро какое-то продать за какие-то копейки, то вот на это и тянули там, что-то купить, может быть. А из-за этого всё, что было у неё с молодых лет, когда замуж уходила, вот она перешивала, что-то делала и в этом нас и одевала. Вот так вот.
– А как война затронула вашу семью? Вот кого мобилизовали?
– Отца. Ему уже было в то время 39 лет. Вот уже он возраст такой. А остался дядя. Вот этот дом они потом, братья эти, поделили на два хода. А он почему – он был постарше, но его бы, может быть, и тоже взяли, но он, этот самый брат, старше. В финской войну все прошел и пришел с ранением с тяжелым ранением и поэтому он не попал на войну, а отца забрали прям с первого, этот самый, мама оставалась уже беременной мной и все равно забрали. Я родилась в сорок втором, в начале сорок второго, и единственное что – вот он в Тамбов ли в конце, нет, наверное, в середине войны 1942 года он приехал в Тамбов, в этот, гужевой транспорт – тогда же лошади были, его послали из-под Мичуринска, фронт проходил здесь, его послали вот за живым этим самым. Лошадь. Вот он приехал сюда, быстренько, мать рассказывала, быстренько это, собрал все, что нужно, и у начальника говорит: отпустите меня до Уварова доехать, потому что ребенок родился, я даже его не видела, а у них по срокам вроде день, что ли, сутки осталось. И вот он с Тамбова доехал на лошади, на санках, приехал, только подсмотрел, там час, может, или два пошёл, побыл и вернулся назад. А после войны, после войны, только в 48-м году пришёл.
– А только в 48-м демобилизовали, получается. А где он был после войны?
– А после войны был в Кузбассе на стройках народного хозяйства. Потому что как специалист, как в это, вот, всё. И прям сразу война за это, замирилась, и там всё это. И в 48-м, и только вернулся в 48-м году. И то вернулся так, что опять каждое начальство тоже строилось в то время. Ну, он там помогал. Этот самый, рамы там, полы, всё, ну, вот по-плотницки. И он, его начальник отпустил, и говорит, двое, двоих наших уварщиков, говорит: вот я вас отпускаю, но вы можете не возвращаться. Уже сорок восьмой год, я не буду на вас в розыск подавать. Ну, он пришёл в сорок восьмом году, и этот… И это вот у меня уже запомнилось. Я вот тут играю в этом, в дворе бегаю, мать дома чего-то. А он с той стороны, с этой вот, параллельной улицы, вот, Садовой, он через… доехал там от… на чём-то с Тамбова, и по садам и сюда идёт. Я его увидела, он там мне гостинец дал. Я кричу матери – мама, мама, к нам дядька пришёл и дал мне мыло! А он мне дал печенье. Ну я её даже и не понимала, что это такое печенье! Думала, что мыло. И вот мать выскочила, а этот отец пришёл. Так что вот. Так. И ещё… Вот. Такие, в то положение ещё какое было. Может быть, вы до сих пор и не знали, но это по мелочи. В общем, он, как начальник-то, не требует возвращения. Ну, они сами дома живут, там всё, он тут по хозяйству всё, думает уже куда-то определиться, работать. И кто-то взял и донёс, что вот он пришёл, а не оформляется. Ну, он в военкомат заявил, что он в отпуске, всё. И их забирают. С этим другом – один друг по Садовой жил. Забирают и в суд. Начинают судить. И дают ему срок за дезертирство с трудового фронта. Никто не слушает, что война давно закончилась, они без отпуска, они без всего. И, в общем, им присуждают Колыму – тюрьму.
– И на сколько лет?
– Лет по пять, что ли. Так, ну, отец тут, тут начальник тоже тюрьмы строился, ничего, он его задержал. И говорит мне, говорит, Александр Фёдорович, ты пока подожди, ты тут пока побудешь, мне ты мне поможешь по строительству. А того отправляет, друга, но отправляет никого нет. Вот отец был месяца два, что ли, или три, он тут задержался, и Сталин издаёт указ всех, те, которые на трудном фронте, всех амнистировать. И отец попадает тут же, он через неделю из Тамбова дома. Приехал реабилитированный, никакой судимости не считается, что это дезертир. А то, что вот того-то отправили, а тот доехал уже до Читы, как осужденный. А когда указ-то вышел, никуда дальше не повезли, но как хочешь, так и возвращайся назад. И он… А ни денег, но документы-то были, а денег-то никак. И вот он с пересадками на перекладных добирался два месяца. Отец в дом был уже, а он два месяца еще возвращался с Читы. Вот такие законы были.
– Конечно, они были очень, очень суровые…
– Законы были очень жесткие. Это вот вообще было… Ну, если вот горсть зерна там что-нибудь у нас в колхозе заметит – судили.
– А как часто было в колхозе, что кого-нибудь судили за…
– Ну, не так часто, но… Всё равно… Работать кому-то надо. У каждого семья, допустим, женщина украдёт этот самый… А вот такого, что давали сроки, это у нас вот тут и такого не было. А все равно никто. Боялись. Возьмешь, останешься. Посадят от детей куда-нибудь.
– Конечно. А сроков не было? Ну, может, кого-то иначе как-то наказывали?
– Вот иначе не знаю, вот иначе не знаю, а вот то, что судить могли, вот это, вот это я помню уже такие разговоры, что вообще нельзя было ничего даже в карман насыпать, и то проверяли.
– И это и после войны продолжалось?
– И после войны тоже не так как-то, потому что уже мужья вернулись, мужчины, а то ведь в основном дети и женщины. Весь колхоз был на этом. Особенно, когда собирала наша Тамбовская область, собирала на танковый.
– Тамбовский колхозник.
– Тамбовский колхозник. В общем, с колхоза в основном всё вынули, чтобы оплатить колонну танков. Поэтому что, то хоть там если сдадут, это какой-то хоть колхозу что-то было, а то даже и всё, говорят, это самое, всё, что денег получили, всё отправили туда. Но в этом, в том плане вот никаких никто возражений не было, что – раз надо, то надо. Вот такое. А что вот у меня единственное, что запомнились вот первые годы, вот это ещё маленькая была… Вы понимаете, вот щемящее чувство голода. Вот постоянное, потому что, ну, я не знаю, как мать выворачивалась: нас четверо, вот единственное, что ребята подросли, они собирали желуди – у нас дуб тут все в лесу-то. Вот бывало у нас на печку высыпят, это желудя. Они подсохнут, растрескаются, вот они их все переберут. И была у нас мельница ручная. Вот эти желуди на муку перекрутят. И нас выручало первые годы то, что у нас была корова. Корова, и корова была очень хорошая, и мать надоит. Напечет из этой желудевой муки, напечет блинчиков в печке и накрошит их, зальет этим молоком и типа вот там как суп получался. Вот это в обед, это в завтраках, в обедах и в ужинах вот это желудёвый этот самый. Блины спасали.
– А они горькие, наверное?
– Вот чё, может быть и горькие, но не помню. Но всё равно, хоть знаешь – наешься, там молоко всё-таки этот самый. А вот напротив тут жил брат двоюродный отцов. Они перед войной были на Кавказе где-то. И он перед войной как раз приехал. Чего-то сюда и тут война. И вот они остались, ну а у них никакого ни хозяйства, ничего нет. В колхоз всех сразу. Ее мужиков забрали на войну, а она осталась. Вот придет, надо идти в колхоз. Хочешь, не хочешь, в колхоз утром идти всем надо. Вот она придет у мамы. Кума, ну давай блинчик. Я есть хочу, эти, в желуде. Ну, мать, что осталось, отдаст ей. Ну, куда ж, как-то надо делиться. А я есть захочу, и плачу. Она: ну, нету, вот, ты, тетя Ксения, отдала блинчики, а я есть хочу, а их нету, этих блинчиков. Надо подожди, подожди. Я щас приду с колхоза, я напеку опять. Я напеку, и мы опять будем есть. Вот понимаете, какое было чувство! Но всё-таки корова-то выручала, а в одно прекрасное время, в каком-то году – это уже война, наверное, закончилась – я не помню, у нас корова эта не растелилась, и её прирезали, иначе она бы сдохла. Вот, и мы остались без коровы! Вот тут-то и было очень тяжело. А потом, уже после войны, тут более-менее, 46-47 год, всё-таки в огороде всё сеяли. Я помню, просо сели, сели подсолнечник, картошку, и выручало то, что просо бывало. Сами обмолотим и получится пшено. И вот тогда уже с картошкой кашу сварят нам пшено, а с подсолнечным жарим, подсолнечное масло. И вот тогда уже картошка, подсолнечное масло и пшено, вот из пшена опять помелет там это, какие-то уже белые что-то, типа оладьи или чего там, ну более-менее хоть чего-то. А потом наступил 1948 год. Вот 48-й еще запомнился на всю жизнь. Неурожай, ничего не уродилось. Даже картошка вот такая. Сушь была невозможной, жара была невозможной. И вот ни коровы, ничего. Как мы выжили, не знаю! А все колхоз продолжался. Вот и отец в 1948 году пришёл, уже это более-менее, когда он уже мужик же, всё-таки есть мужик, он начал заводить скотину, овечье пошли, а потом уже опять, наверное, коровка была. То ли корова, то ли телком ли, но всё-таки уже корова появилась. Вот. А в сорок восьмом году это, не знаю как по этому, но у нас был неурожай, неурожай.
– А голод в деревне был? Были люди, которые вот именно умерли от голода?
– Были. Были. Особенно… И тут как-то болезни начались, ну всё. И вы понимаете… И вот, что ещё запомнилось, ребята, этот самый, научили меня, типа, как петь или стихотворения. Я росла, у меня очень была память хорошая, и вот, бывало, мне что-нибудь расскажут, и я уже всё помню. И вот типа песни. Я вспоминала. Вот день памяти я вспоминала. Вот. Значит, как… Сейчас вспомню, так:
22 июня, ровно в 4 часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война.
Вот они меня выучили, а смысл-то до меня сначала не доходил. Это для меня было как хорошее или стихотворение, или песня. Вот тут подружка жила, соседка, и напротив, с той стороны, другая подружка. У них начали приходить похоронки. Вот тогда-то уже было понятно мне, что такое война. Они похоронку получат, крики, плач, погиб человек. Вот это страшно.
– Получается, вы помните где-то с трёх лет.
– Это где-то вот с трёх лет я уже помню, потому что я ещё как-то не понимала, что такое война-то. Ну, голод-то, голод, это у меня и у всех подружек всё так, чувство голода, да, оставалось. А вот то, что когда похоронки стали приходить, вот это страшно. А почему страшно? Потому что, ну, женщина получила похоронку, дети, крик, и всё, и больше человека нет. То ещё, когда, там, пропал или чё, думает, может быть, живой, то всё. Вот это страшно. Вот этот страх, вы понимаете, такой. Не только жалость, а именно какая-то тяжесть на сердце. Хотя уже где-то около четырёх лет, наверное, а уже всё по-другому понимаешь – тяжесть вот этой войны. Ну и вот, а после военные годы, конечно, я вот сравниваю детство вот наше, моих детей там, внучат, всё-таки вот радость всё-таки была вот после войны, когда вот стали возвращаться, стали вот там, мать там что-нибудь на рынок снесёт, продаст и купит эти вот вы можете помнить были эти конфеты – помадка!
– Конечно!
– Да, вот купится на рубль там грамм 100 или 150 и вот разделит нам по конфетке или по две – такая радость! Такое счастье! Вот несравнимо; я думаю – господи, это чем выросли! А детство-то ведь ничего практически не видели. И школьные годы вот уже начались. Вот я пошла в 50-м году. Мать меня почему-то за один год задержала, так как учительница была начальных классов одна. Школа вот тут у нас недалеко, по улице была. Вот она меня до четырёх классов доведёт, и потом новые набирает. И не было учительницы. Видимо, из-за этого мы тут все пошли не в семь лет, а в восемь. И вот помню, портфель сшит из материала с двумя этими. Вот. Это портфель был. И нормальный портфель, как сейчас помню, это я, наверное, либо в шестом или в седьмом классе только купила. А то вот с этим ходила. И из одежды: от платье штапельное какое-то сшила мать мне. И вот это всё в форме было.
– А чернила в школе предоставляли?
– Чернила в школе было. И все учебники в школе были. Вот. Я единственное помню, этот самый… кто-то из соседей раньше закончил, я уже пошла в школу, я читать читала весь букварь из этой… всё отец мне со мной. И я пошла уже и читала, и считала, и всё вот. Вот это мне учёба давалась в этом плане легко. И я с удовольствием ходила, потому что, ну, школа, это вроде знания. А читать очень любила, а учительница вот жила тут не так далеко, я как сейчас помню. А у них была библиотека. Ну, у нас тут откуда, Господи, библиотекарь? Вот я к ним пришла, как сейчас помню, первую книжку я прочитала, это был «Аленький цветочек». Это первую книжку, которую я прочитала после «Букваря». И так мне было интересно, это сказка! Я прям с удовольствием на всю жизнь запомнила. И вот до сих пор вот я всю жизнь люблю читать. А сейчас чё, я на своих ругаюсь, говорю – вы скоро читать перестанете, не будете уметь читать!
– А ваши сверстники, с кем вы ходили в школу, они тоже с любовью относились к школе?
– С любовью, с сознанием, и понимаете, дело в том, что у нас была семилетка, а после семи, если дальше, десятилетка, это в центре уже, там вот у нас в центре была школа. Какой же это год был? Вот, наверное, 57-й или 56-й. Вот если дальше, в седьмом классе закончил, если идёшь дальше, было положение, вы, не знаю, не помните или, может, помните, ещё дальше было платная учёба. Надо было заплатить. А вот у соседки, у неё тоже трое детей было, одна старшая закончила, ей разрешили бесплатно, так как отец погиб на войне, так как она вдова участника войны, ей разрешили, одну ученицу бесплатно. А мы подросли, вот я и подружка, мы ровесники, с 42-го года и она. Вот она пришла к отцу, и она тоже училась неплохо, и тоже хотела, чтобы закончить 10 классов и куда-нибудь поступить. А поступить почему ещё? Не выпускали никуда. Если паспорта нет, никуда без паспорта не выйдешь. Куда-то поступать надо, куда-то поехать. А паспорт давали только если на учёбу, по каким-то этим причинам. А так не давали, потому что – чтобы все в колхоз. Без паспорта, нет паспорта. И никуда не выйдет. Ну и вот. Вот она пришла к отцу моей Горицы. Ну, мужик же, вроде советуется. Говорит, Сань – ну как же быть? Таиска хочет в 8-9 класс, в 10-й платить. А платить где-то в пределах 150 рублей. А это были очень большие деньги в то время. И отец говорит – ну подожди, ну может быть как-нибудь через военкомат, что-нибудь, может быть это, раз у тебя ещё вторая по возрасту семь и не пошла больше, а эта была последняя. И вот нам идти в школу. Уже сентябрь наступает и выходит указ, отменяет эту самую плату за учёбу. И мы закончили по 10 классов уже без платы.
– А много людей, кстати, после этого пошли также учиться в 8-9-10?
– Вы понимаете, для Уварова в той школе немало было. У нас, я помню, три группы. Вот я не знаю, для Уварова это немало.
– Это немало.
– И понимаете, и стремление из нашего класса, стремление учиться дальше, кто учился хорошо – это без разговоров даже. И учителя настаивали, и сами желали, чтобы получили среднее образование, или высшее, но чтобы всё-таки не в колхоз! Вот такое вот было.
– А как во время войны, вот, кстати, хотелось ещё спросить, ещё добывали себе еду? Ну вот жёлуди, да. Наверное, собирали и грибы, и ягоды.
– Всё, всё. Всё собирали! И если картошка, если вот ещё выручало то, что если уродится картошка, то это голод, но не такой, как этот самый. А всё-таки картошку, где-то суп какой-то нам сварят там, потому что там капуста, чё-то своё. Капусту, я помню, такие бочки, и огурцы туда, в капусту – мать, бывало, огурцы такие вот на это. Вилки, капуста режутся, а этот пополам вилки! И вот, вы знаете, бывалый достанет вилок и картошку отварит на завтрак. И вот это такое было лакомство. Картошку мы лопали. Или огурец достанет, или вилок. Нет, это уже было, это уже не было.
– А на рыбалку не ходили?
– Ходили. Ребята и на рыбалку, и на охоту, и держали собак охотничьих. Вот они уже подросли, когда они матери стали помогать в этом плане, потому что учиться уже это, работать работает. Вот, старший ушел на железную дорогу, а второй брат закончил – водительские получил права, на шофера выучился и уже тут. Тут он хоть на полуторке тогда, полуторке. Машины были, помните.
– А в каком возрасте он получил? То есть ему не было восемнадцати получается?
– Нет, он же его получил в 18, в 18, потому что, конечно, кто же даст это самое. И тогда было, стало получше. Он там и дрова, дрова бывало привезёт, печки-то дровами топились. А так, я сама помню, мы с ребятами всё лето ходили по двору – лес у нас там – и вот сушняк наберёшь, вязанку эту навяжешь и несёшь на себе. Вот разу по два сходим, чтобы зимой хоть на растопку, а из этой самой сушили навоз. И вот эти кошелки, мать идёт в колхоз, и сушить, чтобы навоз посушили, чтобы он высох, и его в сарай зимой топились. Вот эта разжижка, это вот то, что это. И то, если вот этот сушняк-то несёшь, если ещё лесник увидит, так может ещё и отобрать. Не разрешали.
– А как относились вот к леснику за то, что он мог отобрать?
– Да как, никак не относились: ругайся, не ругайся, с обидой, но с него тоже требуют, чтобы он смотрел и не давал. Но иногда сделают вид, что нас не замечают. По-человечески относились, всё равно, все хлебали, всё то же самое.
– То есть без взяток?
– Нет, нет. Какие там взятки?
– Я не знаю. Тем же самым кизяками.
– Единственная взятка отберёт то, что ты несёшь, эту вязанку, и ты придёшь пустой. А так не подавал ни в суд, ни к кому. Был этот самый хороший лесник такой.
– А руководство колхоза, оно никак не подавало в суд на людей?
– Нет, нет. Потому что и председатели все тоже были, они что, не понимали, что людям надо как-то выживать. В общем, вот такое вот.
– А можно было собирать после, вот урожай вот собрали зерно, всё, а можно было после этого собирать, возможно?
– Можно, можно. Я не знаю, как это официально или неофициально, но колоски можно было собирать.
– Естественно, после уборки урожая?
– Да, после уборки. До уборки – это уже подсудное дело было. Не знаю, судили или нет, но люди знали, и поэтому опасались, конечно.
– Вот еще: вы говорили про семью, которая с Кавказа переехала, а им, получается, не дали приусадебный участок?
– Он был приусадебный участок, при доме, но его чем засаживать-то семье? Они приехали, я не знаю, может быть, не рассчитывали оставаться тут, а война началась, и этот самый, у нее трое или четверо же было. Четверо тоже. Два парня и две девчонки. Она осталась одна. Да еще с Кавказа колхозных этих порядков не знает. Она там сроду не работала в этом колхозе. А тут чем-то и жить надо, а не пойдешь в колхоз и то, что тут могли отнять то, что огород отрежут. Вот такие вот, я помню.
– А были ещё какие-нибудь переселенцы? Может быть, были беженцы из западных областей СССР?
– Вы знаете, ну были, только я вот не знаю, у нас тут вот поблизости не было. А так в центре, в центре были, потому что когда начали, подошла к Мичуринску, почти подошли до Мичуринска, там бомбили. И этот самый Мичуринск бомбили – всё, некоторые уезжали. И они переезжали-то и с тех областей, перед Москвой, Тула где, тут сюда, в Воронеж, когда началось, они все сюда, в Тамбовскую, в Мичуринск. А Мичуринск тоже остановили перед Мичуринском. Тамбов не дошли до Тамбова. А то бомбить-то, бомбили.
– А как была налажена военно-медицинская помощь? Был ли тут фельдшер?
– Медицинская помощь была налажена. У нас же здесь районная больница. Многих забрали, мужчин забрали, оставались женщины. Те, которые наши уваровские врачи, они тут постоянно жили и выучились. И в общем, в плане медицинской помощи у нас налажено было. А вот в центре была больница, а вот здесь вот, через несколько улиц, у нас еще даже фельдшерский и акушерский пункты были. Вот, так что наши вот туда, если не попадали в больницу, у нас тут фельдшер хороший был. Хвалили! Там вот её… Анастасия, как-то её звали-то, Анастасия с чем-то. Вот, и она работала очень долго-долго-долго. И… В шестидесятые, что ли, годы уже она только ушла, а то была одна фельдщерица. И она всех знала, она в Уваровской была и всех в этом своем участке тут, всех знала, кто чем болеет, как, чего, и помощь ей оказывалась.
– Мария Александровна, а были ли случаи, когда кто-то не хотел работать в колхозе? Кто-то, может быть, или воровал? Какие-то такие дурные люди были?
– Да были, конечно. И воры были, и… Бандиты были.
– А стало их больше во время войны? Или, может, советская власть с ними расправлялась?
– Нет, вы знаете, я бы не сказала, что больше было. У нас как-то сильно вот таких… Ну, ребята уже подросли, вот, мои братья-то, но единственное, что я вот помню, это у них со всеми этими ворами, такими плохими, этими, бои всегда были. У них пойдут на улицу и придут еще подерутся там. Мать, бывало, ругается. А я еще помню, какие-то у них свинчатки были. У ребят вот это на руку надевали, из свинца выливали как у нас тут на во дворе валялось. И вот они этим дрались. Вот свои там права добывали. И таких вот, ну наши, которые тут наши-то, они с этой самой своей кучкой и вот стенку на стенку. И так они на этих плохих ребят всегда, они их как-то осаживали.
– Но руководство колхоза особо не осаживало?
– Нет, нет такого.
– Им было все равно, наверное.
– Да может быть. Они, может быть, и не знали, что творится у молодежи. Но таких страшных ничего не было, в смысле, они населению не вредили, видимо. Или боялись, может быть. Тогда же строгие, статьи-то были, дадут не год, не два, а по военному времени. Так что… Ну, вот такие вот дела.
– Да, ну, а может быть, они как-то покрывали местные бандиты, дезертиров, еще кого-то, но это, наверное, не знаете.
– Нет, вот это я не знаю. Это, может быть, и было, но для меня, для моего возраста это… Ребята уж не будут мне это все докладывать, а сами-то, может, и знали.
– А, кстати, а вот кроме колхоза направляли ли людей куда-то трудиться? Может быть, вы знаете, потому что часто отправили кого-то в города учиться, на ФЗО.
– Вот когда уже начали заканчивать школу, это уже не задерживали. Паспорт выдавали и хочешь подступай в Москву, там куда в Тамбов, куда в общем у тебя есть доходы. Вот я сама по себе знаю: я закончила очень хорошо школу. И, хоть и отец был, но ребята поженились только. Вот, думаю, если я куда-то далеко поеду, надо же оплачивать – и квартиры, и всё. Ну и вот и решили: я закончила сначала наше Тамбовское медучилище. Это я в 60-м поступила, а в 62-м я закончила его. Вот, поступила, меня направили после учёбы уже распределение было. Меня в Ржаксу у нас направили.
Не сюда, не в Уварово, а во Ржаксу. Там не хватало медиков. Ну и вот. Ну а мне во Ржаксу, в деревне же вроде. Тут в деревне не охота. И на счастье приехали родственники с Кемерово, с Кузбасса. А почему? Почему-то у нас многие уезжали на стройки народного хозяйства – туда, в Кузбасс. Особенно вот с колхозов, у кого паспорт были. Но там промышленный город, там оплата всё-таки, зарплата какая-никакая, но зарплата. А вот приехали родственники, моя двоюродная сестра, она тоже медсестра. Ну и пришли к нам. А она и спрашивает: куда ты? А я говорю, да во Ржаксу, а она – да поехали к нам. Я говорю: ну а мне как же, ну у меня же по распределению, кто меня примет. Она работала в поликлинике старшей медсестрой. К тебе поедем, я тебе свою поликлинику устрою. В общем, я в 62-м году уезжаю. Мать с отцом ах-ох. Вроде закончили, как-никак. Специальность, конечно, какая-то есть, и всё. А куда ты уедешь? Далеко же. Ну, всё-таки я настояла на своём и уехала. И вот этот самый… Я отработала два года, а в Кемерово открылся мединститут. Только, наверное, он… Выпуска два только, что ли, у него выпустили. Вот. А набирали с медицинским образованием. Пожалуйста, поступай. Льготные там какие-то были. Ну, мы с подружками походили перед этим на курсы подготовительные, вспомнить, чтобы не забыть, и поступили. И это я в 62-м поступила. И училась, и работала. Работала и училась. Потому что я знала, никто меня… Тут помогать… Денег… Тут… Зарабатывай, хочешь, сама и учись. И, в общем, до четвёртого курса я работала и училась. А потом, на четвёртом курсе, там уже пошли специализации, всё, и я бросила тут. Помогали немного родители. И вот в 1971 году я кончила и пошла работать психиатром.
– И вернулись.
– И вернулась, потому что… А вернулась почему? Потому что родители стали очень старые. Ну и может быть и не вернулись, а муж у меня был на заводе, работал по первой сетке, поэтому он пошел на пенсию в 50 лет. И так, вроде старший сын поступил в военное училище в Челябинск, уже уехал оттуда, а второй сын только закончил 6 классов. Ну ему ещё в школе учиться далеко, так что решили, говорим, Коля, ну что, давай будем переезжать. И мы поменяли квартиру, обмен. Нашу квартиру, тут на рабочую. Ну в то время квартиру получали, там мы уже вон на заводе работали. Был в авторитете, ему квартиру дали двухкомнатную. И мы там 26 лет отжили. А потом вот приехала и тут. И там 17 лет отработала. И тут, в Уварово, 33 года на одном месте. И жизнь пришла к завершению.
– Ну да, откуда вышли – сюда и пришли.
– Сюда и пришла. Своё, своё родное. Всё родное, всё своё.
– Спасибо вам большое, Мария Александровна, за такое интервью большое, информативное.
– Может быть, ничего нового для вас не сказала?
– Нет, что вы. Почему мы вообще их собираем? История каждого человека, который был современником военного и послевоенного времени, очень важна сейчас. Ведь мы не можем уже встретиться с людьми, которые пережили это время.
– Да
Просто люди уходят. И важно сейчас зафиксировать все воспоминания.
– Вы понимаете, что я хочу сказать? Но вот практически такого детства – у нас его не было. Ну, вы понимаете, вот, учёба, вот, стремление познавать, вот, окружающий мир, что-то – вот такое было. Мне кажется, вот, в настоящую молодёжь. Ну, те, которые очень хорошие, умные, там, они, конечно, а вот средние вот такие, не…
– Они пресыщены. Пресыщены всем, что есть.
– И вы понимаете, вот ничего не радует. Мне кажется, вот у нас, понимаете, мы всё воспринимали с радостью. Что-то новое, что-то узнала, что-то там, какая-то специализация, что-то по работе новое. Всё воспринималось, вы понимаете, эмоционально. А вот сейчас я считаю, что действительно, как вы сказали, пресыщены.
– Да, информации море.
– И море, и вы понимаете, и мы, молодежь, может, я и кощунство скажу, но мы отучили их работать.
– Да, это так.
– Вот начнёшь думать: да пойду-то я работать там за 70 или 80 рублей. Им, им, подавай сразу тысячи. А мы начинали, вы не поверите, значит, медсестринская ставка была 45 рублей. 45 по тем деньгам. А закончила я по институт, пошла работать, врачебная ставка была 74 рубля.
– И это очень-очень мало.
– Мало. И нам приходилось всю жизнь на полторы ставки поддежуривать, то-сё. Где-то там выходило, если выйдет полторы, там около двухсот рублей. Это считалось уже денгами. Но они и деньги были ценные. Не то, что сейчас.
– Да, а сейчас люди и не хотят идти, и ленятся. Учиться не хочется. Зачем учиться? Проще посмотреть видео в интернете.
– А, вы понимаете, учиться… Приведу пример. Медсестра у нас в приемном покое. Ну, работала долго, всех же знаешь, Господи. У ней дочь хорошо закончила. Ну и в медицинский. Я ей сразу сказала, говорю: ну пусть идёт она у тебя в наш, хоть в Тамбовский медицинский. Ой, да это нет, вдруг не поступит, пусть сначала пойдёт в училище на фельдшера. Закончила всё на фельдшера. Сейчас как-то прихожу в приёмный покой, она работает. Говорю, ну чё, дочь? Да всё закончилось, на скорой работает. Говорю, а чё учиться? А учиться? Говорю, чё дальше-то? Она же собиралась закончить медицинский. Ой, она подумала, подумала – это шесть лет ещё учиться. Вот есть специальное стихотворение. Нет стремления! Так что вот такие вот… Такое время настало.
– Да, ну… Ну и завершить… Ну и можно тут подытожить, что… Ваше время, несмотря на все тяготы, лишения, было временем надежд?
– Временем надежд! Время… знаете, эмоционально всё воспринималось. Бывала радость! Что-то купишь, что-то какую-то обновку. Это всё радовало! А им сейчас какое-то безразличие. Говорят, что это такое? То ли мы сами их избаловали, всё это. И учиться-то ведь опять. Я что вот говорю, вот наше государство всё-таки неправильно делает. Ладно, все там какие-то институты платные, но медицинские ни в коем случае платные нельзя делать.
– Нельзя. А если платно медицину, туда идут балбесы!
– Балбесы! А в медицине надо учить. Там не только учить, а там зубрить. Потому что ты же должен знать, где какой нерв, где какой орган. Это ж надо… что греха – зубрить. А он дурак дураком, и заплатит, и его переведут.
– И пойдет в первую очередь на стоматолога, потому что там деньги.
– Ага. И чего дальше он получит? Какой из него получится врач?
– Никакой.
– Вот это я против этого. Ладно, пусть идёт в технический вуз, там он железку не так прикрутил, ничего не случится. Человеку не навредишь. А врач сказал отвечать за судьбу человека. Вот такие вот.
– Подытожили!
– Подытожили.
– Спасибо вам большое.
– Пожалуйста!
Архив АНО «Тамбовское библиотечное общество». Аудиозапись.